Театр и школа в Израиле
Интервью с Ольгой Левитан
"Мой папа - птица". Публичный театр для детей и взрослых. Режиссер - О. Лифшиц.
Фото Н.Шакнес.
"Мой папа - птица". Публичный театр для детей и взрослых. Режиссер - О. Лифшиц.
Фото Н.Шакнес.
Мы в соцсетях
Ольга Левитан. Доктор наук, театровед, историк театра и театральный критик. Окончила театроведческий факультет ЛГИТМиКа.
В настоящее время живет и работает в Израиле, преподавала на кафедре театральных наук в Еврейском университете в Иерусалиме и на кафедре сценических искусств в Тель-Авивском университете.
В сферу научных интересов входят проблематика диалога культур в театральном искусстве, русский и еврейский модернистский театр.
В настоящее время живет и работает в Израиле, преподавала на кафедре театральных наук в Еврейском университете в Иерусалиме и на кафедре сценических искусств в Тель-Авивском университете.
В сферу научных интересов входят проблематика диалога культур в театральном искусстве, русский и еврейский модернистский театр.
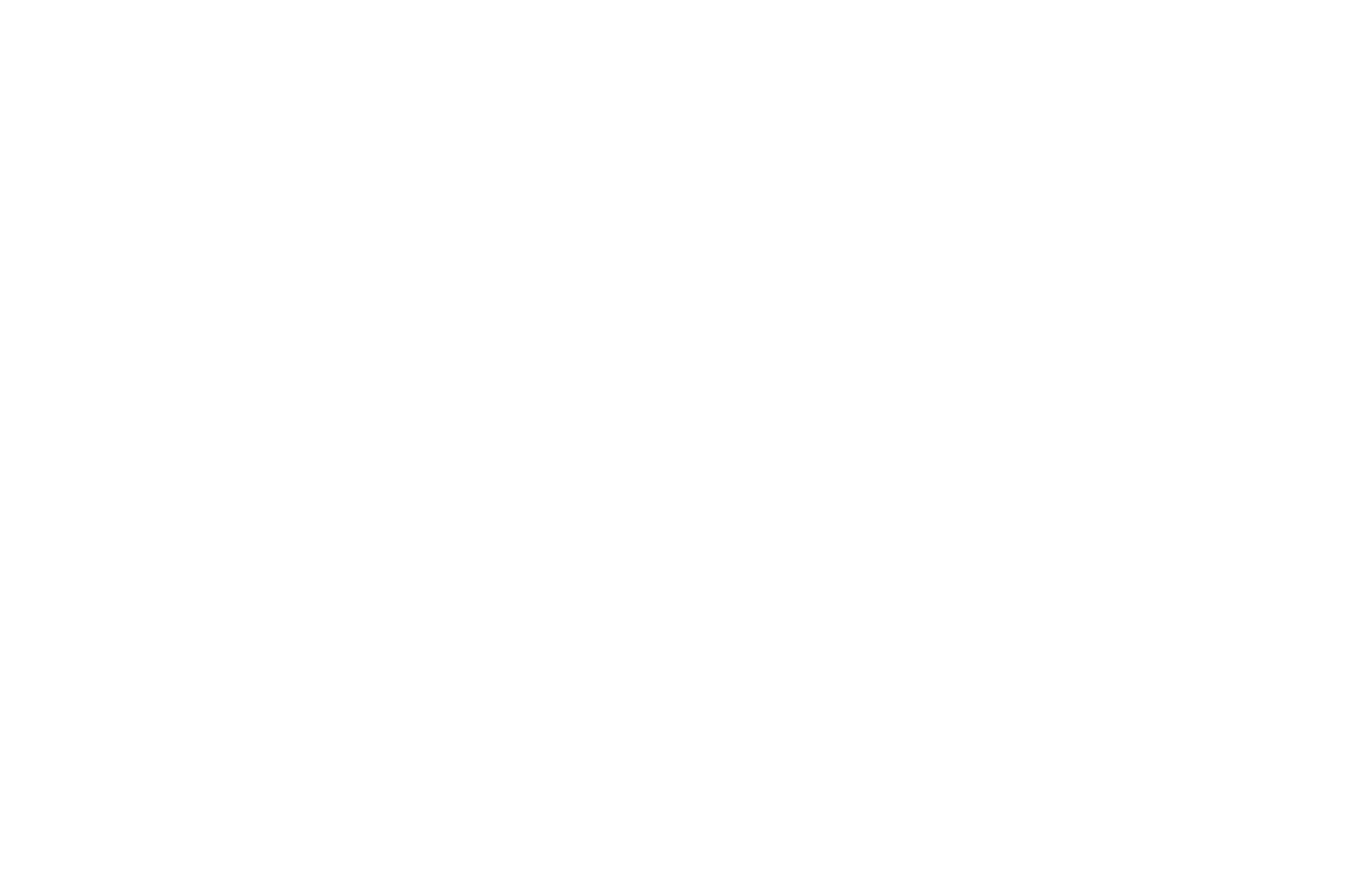
Ольга Левитан
Автор десятков статей на эти темы, а также инициатор нескольких международных исследовательских проектов в области мультикультурного, транскультурного и межкультурного театра.
В 2015–2022 гг. занимала позицию директора Израильского центра документации сценических искусств в Тель-Авивском университете, став куратором нескольких научных выставок в израильских университетах и за рубежом. Среди последних выставочных проектов — «Монологи гибели, 1923-2023 на сцене ивритского и израильского театра», «Гадибук, Вахтангов и Габима» в Театре им. Евг. Вахтангова и «Странствия Гадибука» в Центре еврейского культурного наследия в Тель-Авивском университете.
Живет в Иерусалиме.
В 2015–2022 гг. занимала позицию директора Израильского центра документации сценических искусств в Тель-Авивском университете, став куратором нескольких научных выставок в израильских университетах и за рубежом. Среди последних выставочных проектов — «Монологи гибели, 1923-2023 на сцене ивритского и израильского театра», «Гадибук, Вахтангов и Габима» в Театре им. Евг. Вахтангова и «Странствия Гадибука» в Центре еврейского культурного наследия в Тель-Авивском университете.
Живет в Иерусалиме.
Знакомьтесь – Ольга Левитан
Здравствуйте, Ольга! Вы театровед, доктор наук, в сферу Ваших интересов входит диалог русской и еврейской театральной культуры, Вы преподаёте в университетах. Как так получилось, что какое-то время Вы занимались проблемами театрального образования детей в Израиле?
Давайте уточним - я преподавала до июня 2023-го года, и с тех пор не занимаюсь педагогической деятельностью. У нас очень строгая система: по достижению 67 лет все университетские преподаватели уходят на пенсию, уступая место молодому поколению. Честно говоря, я рада этой перемене. После 30 лет преподавания хочется больше времени уделить научным проектам. Моя преподавательская работа связана была в основном с Иерусалимским университетом, в Тель-Авивском университете я руководила Израильским центром документации сценических искусств, фактически самым большим театральным архивом страны, и принимала участие в семинарах, связанных с архивными исследованиями.
В Израиле моя научная степень называется доктор философских наук, но правильнее было бы сказать «доктор философских наук по театроведению или по истории театра». В Израиле все, сделавшие докторат в области гуманитарных наук - доктора философии с определенной специализацией. Пользуясь принятыми в России понятиями, можно сказать, что я театровед, историк театра и доктор искусствознания.
Как вдруг в круге Ваших интересов возникло театральное образование детей?
По двум причинам. Во-первых, детский театр был среди тех направлений, которыми я занималась на протяжении многих лет, еще со времен моей профессиональной работы в России. Закончив Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК), я активно сотрудничала с Кабинетом театров для детей и театров кукол в Московском СТД, участвовала в поездках по провинциальным детским театрам для просмотра и последующих обсуждений спектаклей с актерами и режиссерами. Мне посчастливилось также участвовать в семинаре молодых критиков театра кукол, в Ленинградском СТД, которым руководила Анна Федоровна Некрылова.
Приехав в Израиль, через некоторое время я с удовольствием к этим темам вернулась: в университете подготовила спецкурс "Театр для детей: теория и практика", позднее принимала участие в международном проекте "Научный форум по изучению театра для детей и юношества" под руководством легендарного Хенрика Юрковского, публиковалась в сборниках этого форума.
Давайте уточним - я преподавала до июня 2023-го года, и с тех пор не занимаюсь педагогической деятельностью. У нас очень строгая система: по достижению 67 лет все университетские преподаватели уходят на пенсию, уступая место молодому поколению. Честно говоря, я рада этой перемене. После 30 лет преподавания хочется больше времени уделить научным проектам. Моя преподавательская работа связана была в основном с Иерусалимским университетом, в Тель-Авивском университете я руководила Израильским центром документации сценических искусств, фактически самым большим театральным архивом страны, и принимала участие в семинарах, связанных с архивными исследованиями.
В Израиле моя научная степень называется доктор философских наук, но правильнее было бы сказать «доктор философских наук по театроведению или по истории театра». В Израиле все, сделавшие докторат в области гуманитарных наук - доктора философии с определенной специализацией. Пользуясь принятыми в России понятиями, можно сказать, что я театровед, историк театра и доктор искусствознания.
Как вдруг в круге Ваших интересов возникло театральное образование детей?
По двум причинам. Во-первых, детский театр был среди тех направлений, которыми я занималась на протяжении многих лет, еще со времен моей профессиональной работы в России. Закончив Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК), я активно сотрудничала с Кабинетом театров для детей и театров кукол в Московском СТД, участвовала в поездках по провинциальным детским театрам для просмотра и последующих обсуждений спектаклей с актерами и режиссерами. Мне посчастливилось также участвовать в семинаре молодых критиков театра кукол, в Ленинградском СТД, которым руководила Анна Федоровна Некрылова.
Приехав в Израиль, через некоторое время я с удовольствием к этим темам вернулась: в университете подготовила спецкурс "Театр для детей: теория и практика", позднее принимала участие в международном проекте "Научный форум по изучению театра для детей и юношества" под руководством легендарного Хенрика Юрковского, публиковалась в сборниках этого форума.
Система независимых экспертных советов в Израиле
Возвращение к проблематике детского театра также связано было с израильской системой экспертных советов, существующих и при Министерстве образования, и при Министерстве культуры как независимые общественные институции. Я больше десяти лет работала в независимом экспертном совете Министерства образования, в состав которого входили педагоги, специалисты в области детского театра и того, что на английском называется "community theatre". Кажется, на русском до сих пор нет эквивалента этому понятию. Между тем, речь не о социальном и не о самодеятельном театре, но совершенно особенном явлении: театре гражданских сообществ. В Израиле есть академические ученые, чья исследовательская деятельность связана с такого рода театром. Они обладают двойным зрением, социально-художественным, и потому их вклад в работу общественных экспертных советов неоценим. Интересно, что в состав совета не входят представители театральной прессы. Считается, что театральные критики, с одной стороны, могут быть зависимы от позиции газеты или СМИ, с которыми они связаны. С другой стороны, критики обладают собственным влиянием на зрительские настроения, и в силу принципа разделения полномочий являются отдельной ветвью общественного дискурса. Экспертные советы не имеют прямого отношения к бюджетам, но мнение совета влияет на финансирование. В совет входят люди, профессионально занимающиеся театром, но, как правило, это не практики, то есть не те, кто может оказаться заинтересованной стороной. Если же в состав экспертного совета входит практик театра, что иногда все-таки бывает, то он не принимает участия в обсуждениях, когда речь заходит о спектакле, к участникам которого он мог или может иметь отношение. Конечно, всё происходит на основе профессиональной честности. У нас очень маленький мир, поэтому все друг друга знают. Лучше быть честным.
А как организуется такой независимый совет? Кто является инициатором, как это вообще возникает как институция?
Специально я не занималась изучением этого вопроса, могу рассказать лишь о личном опыте в проекте под названием «Корзина культуры», предназначенном для художественного воспитания детей и подростков, начиная с трёх-четырехлетнего возраста и заканчивая старшеклассниками, то есть молодыми людьми 16 – 18 лет. «Корзина культуры» возникла по инициативе Брурии Бекер, поразительной женщины, обладавшей неуемной энергией.
Она создала и целых 22 года руководила этой организацией с бюджетом около 40 миллионов шекелей в год, с издательской, педагогической и просветительской деятельностью и большим влиянием на процессы детского художественного образования.
Брурия все делала быстро: решив пригласить меня в экспертный совет «Корзины культуры», позвала на беседу, наверняка предварительно выяснив какие-то детали моей биографии. Мы разговаривали больше часа, я отправила ей свои публикации. И, кажется, больше ничего и не было, кроме этого разговора. Вероятно, она обсудила мою кандидатуру с председателем совета. Через пару недель мне прислали официальное приглашение принять участие в работе экспертного совета по театру.
А как организуется такой независимый совет? Кто является инициатором, как это вообще возникает как институция?
Специально я не занималась изучением этого вопроса, могу рассказать лишь о личном опыте в проекте под названием «Корзина культуры», предназначенном для художественного воспитания детей и подростков, начиная с трёх-четырехлетнего возраста и заканчивая старшеклассниками, то есть молодыми людьми 16 – 18 лет. «Корзина культуры» возникла по инициативе Брурии Бекер, поразительной женщины, обладавшей неуемной энергией.
Она создала и целых 22 года руководила этой организацией с бюджетом около 40 миллионов шекелей в год, с издательской, педагогической и просветительской деятельностью и большим влиянием на процессы детского художественного образования.
Брурия все делала быстро: решив пригласить меня в экспертный совет «Корзины культуры», позвала на беседу, наверняка предварительно выяснив какие-то детали моей биографии. Мы разговаривали больше часа, я отправила ей свои публикации. И, кажется, больше ничего и не было, кроме этого разговора. Вероятно, она обсудила мою кандидатуру с председателем совета. Через пару недель мне прислали официальное приглашение принять участие в работе экспертного совета по театру.
Надо сказать, что «Корзина культуры», существующая и по сей день, состоит из многих отделов - театра, кино, пластических искусств, литературы и т. д. В каждом отделе – свой экспертный совет. Смысл деятельности экспертного совета – в его, по уставу, независимости: совет никому не подчиняется. Хотя на моей памяти был конфликт с министром просвещения, который не хотел принять решение совета, считал его неправильным. Конфликт произошёл вокруг спектакля, где рассказывалось о заключённом, арабского происхождения, совершившем преступление, связанное с терроризмом. Он был причастен к организации террористического акта. Сам не принимал в этом участия, но был причастен. Потом много лет провёл в тюрьме, пришел к отрицанию терроризма, говорил о необходимости просветительской деятельности. Взгляды его изменились, человек же меняется. Он получил образование в тюрьме, думал, писал (у нас в тюрьме можно получить университетское образование), стал уважаемой личностью и даже переписывался с некоторыми деятелями израильской культуры. И вот появились пьеса и спектакль, где этот человек оказался прототипом главного героя. В спектакле речь шла не о такой влиятельной личности, как это было в действительности, просто о неком заключённом, который, находясь в тюрьме, преобразился и все возможное время проводил за изготовлением музыкального инструмента в качестве свадебного подарка своему родственнику. Пьеса в жанре тюремной драмы написана была на арабском языке и поставлена в арабоязычном театре в Хайфе.
Скандал разгорелся вокруг того, что террорист был показан как обычный человек, время от времени вызывавший сочувствие. Его террористическое прошлое не оправдывалось, но тот, кем он стал в тюрьме, вызывал сочувствие, раскрывая сложность человеческой природы. Экспертный совет рекомендовал спектакль к показу школьникам старших классов. Министр образования настаивал на том, что показ такой постановки подростковой аудитории невозможен, и недопустим. Закончилось тем, что несколько человек, и я в том числе, ушли из экспертного совета. Но были разные мнения по поводу этого конфликта. Кто-то полагал, что уходить нельзя, потому что на наше место просто придут другие равнодушные и менее добросовестные люди.
В этом году меня позвали работать в Экспертный совет при Министерстве культуры, я согласилась и не жалею: вижу, как наши встречи и обсуждения меняют систему оценки спектаклей. Так, по сути, осуществляется влияние гражданского общества на работу государственных структур. Экспертные советы это гражданское общество, и они во многом определяют культурную политику. Надо сказать, что экспертные советы заведомо составляются из людей с разными политическими взглядами и культурным бэкграундом. Среди экспертов есть люди религиозные и светские, родившиеся в Израиле и репатрианты, представители левых и правых идеологий.
В «Корзине культуры» для того, что оградить деятельность совета от какой-либо ангажированности, решено было, что экспертизе не подлежит содержание спектаклей, только художественная сторона. Рекомендация совета касается лишь художественной ценности постановки. На деле, однако, так не всегда получается, потому что невозможно говорить о художественной стороне, не затрагивая содержания. И нередко правило это нарушается. Но оно существует именно для того, чтобы сохранить наибольшую объективность.
Параметры оценки спектаклей были разработаны в начале 2000-х годов, когда экспертным советом руководил Давид Зиндер, театральный режиссер, профессор отделения актерского мастерства в Тель-Авивском университете.
Скандал разгорелся вокруг того, что террорист был показан как обычный человек, время от времени вызывавший сочувствие. Его террористическое прошлое не оправдывалось, но тот, кем он стал в тюрьме, вызывал сочувствие, раскрывая сложность человеческой природы. Экспертный совет рекомендовал спектакль к показу школьникам старших классов. Министр образования настаивал на том, что показ такой постановки подростковой аудитории невозможен, и недопустим. Закончилось тем, что несколько человек, и я в том числе, ушли из экспертного совета. Но были разные мнения по поводу этого конфликта. Кто-то полагал, что уходить нельзя, потому что на наше место просто придут другие равнодушные и менее добросовестные люди.
В этом году меня позвали работать в Экспертный совет при Министерстве культуры, я согласилась и не жалею: вижу, как наши встречи и обсуждения меняют систему оценки спектаклей. Так, по сути, осуществляется влияние гражданского общества на работу государственных структур. Экспертные советы это гражданское общество, и они во многом определяют культурную политику. Надо сказать, что экспертные советы заведомо составляются из людей с разными политическими взглядами и культурным бэкграундом. Среди экспертов есть люди религиозные и светские, родившиеся в Израиле и репатрианты, представители левых и правых идеологий.
В «Корзине культуры» для того, что оградить деятельность совета от какой-либо ангажированности, решено было, что экспертизе не подлежит содержание спектаклей, только художественная сторона. Рекомендация совета касается лишь художественной ценности постановки. На деле, однако, так не всегда получается, потому что невозможно говорить о художественной стороне, не затрагивая содержания. И нередко правило это нарушается. Но оно существует именно для того, чтобы сохранить наибольшую объективность.
Параметры оценки спектаклей были разработаны в начале 2000-х годов, когда экспертным советом руководил Давид Зиндер, театральный режиссер, профессор отделения актерского мастерства в Тель-Авивском университете.
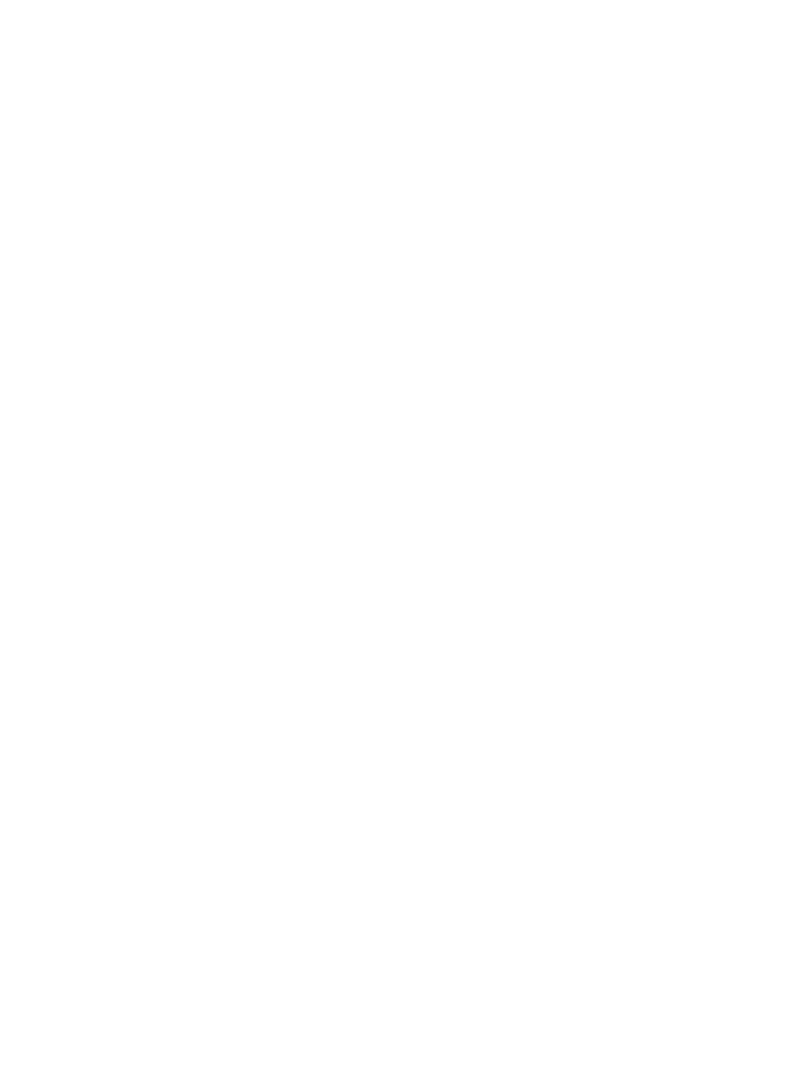
Давид Зиндер
Зиндер – один из ведущих в мире специалистов по системе Михаила Чехова. Сейчас он уже очень пожилой человек, но до сих пор по всему миру с успехом проводит международные чеховские лаборатории. Он настаивал на том, что экспертный совет должен заниматься исключительно художественной стороной происходящего на сцене.
Проект «Корзина культуры» и его экспертный совет связаны с тем, что в нашей системе образования есть узаконенная норма, в соответствии которой каждый ребенок имеет право на субсидированный просмотр трех спектаклей в год. Спектакли, получающие высокую оценку экспертного совета, либо приглашаются в школы, если для этого есть условия, либо школы заказывают билеты на рекомендованные постановки. Экспертные заключения важны для школьных педагогов. Им это помогает понять, что может быть наиболее интересным для учеников, выбрать спектакли и привести туда детей. В помощь учителям издательский отдел «Корзины культуры» выпускает специальные брошюры с одной или несколькими статьями, посвященными наиболее сложным или наиболее интересным спектаклям. Среди постоянных авторов эти брошюр - ведущие театроведы и артисты страны.
Проект «Корзина культуры» и его экспертный совет связаны с тем, что в нашей системе образования есть узаконенная норма, в соответствии которой каждый ребенок имеет право на субсидированный просмотр трех спектаклей в год. Спектакли, получающие высокую оценку экспертного совета, либо приглашаются в школы, если для этого есть условия, либо школы заказывают билеты на рекомендованные постановки. Экспертные заключения важны для школьных педагогов. Им это помогает понять, что может быть наиболее интересным для учеников, выбрать спектакли и привести туда детей. В помощь учителям издательский отдел «Корзины культуры» выпускает специальные брошюры с одной или несколькими статьями, посвященными наиболее сложным или наиболее интересным спектаклям. Среди постоянных авторов эти брошюр - ведущие театроведы и артисты страны.
Как учат театральных педагогов в Израиле
Есть ли в этих брошюрах какое-то методическое содержание? То есть предлагаются ли какие-то формы работы по поводу тех спектаклей, о которых там пишется?
Брошюры не носят методического характера, они рассказывают о спектакле. Авторы, пишущие для этих брошюр, как правило, стараются говорить не сложно, не научным языком. Они рассказывают о том, что с их точки зрения важно для понимания тематики и языка спектакля.
В Израиле принято готовить детей к посещению спектакля. В многих школах – это норма. Принято обсуждать спектакли. Особенно это распространено в хороших детских садах. В Иерусалиме есть Центр кукольного театра, постоянно работающий с довольно большим количеством детских садов. У них есть свой методический отдел, и новые постановки они сначала "проверяют" на детях из тех детских садов, что приходят к ним регулярно. Перед просмотром детям рассказывают что-то о теме спектакля, или, если это особый язык, то о языке спектакля. После просмотра беседуют об увиденном.
Методики – отдельная и, серьезная тема. Её изучают и разрабатывают университетские отделения театральной педагогики, предназначенные для людей с базовым театральным образованием – академическим или практическим, намерение которых связать свою профессиональную карьеру с преподаванием театра в школе или в городских и районных культурных центрах. Человека, у которого есть преподавательская лицензия, скорее возьмут на педагогическую работу, и он будет получать лучшую зарплату, чем, скажем, актер, работающий с детьми, но не имеющий лицензии. Право на выдачу такой лицензии имеют только институты высшего образования – университеты или колледжи. Несколько лет я преподавала на кафедре педагогики художественных искусств в Академическом педагогическом колледже имени Давида Елина в Иерусалиме. Эта кафедра составлена из отделений драматического театра, музыки, танца и пластических искусств. Выпускники этих отделений могут поступить на двухлетние курсы театральной педагогики и получить лицензию на преподавание. Это довольно серьезная программа, которая включает занятия по психологии и социальным наукам. Актеры, закончив профессиональную актерскую школу без диплома о высшем образовании, могут пойти в университет или колледж, дополнить имеющиеся у них знания определенным количеством историко-теоретических курсов, получить степень бакалавра и после этого пройти двухлетние курсы по театральной педагогике. Конечно, как мы хорошо знаем, без интуиции невозможно заниматься какой бы то ни было творческой деятельностью, в том числе и театральной педагогикой. Но в дополнение к интуиции тут предлагаются знания и вполне академический двухгодичный курс, выпускники которого получают лицензию и право на преподавание.
Сколько учебных часов в двухгодичной программе обучения специалистов?
Примерно 80 академических часов. Эта информация есть в открытом доступе, онлайн на сайтах университетов и колледжей. Такая программа не считается заменой магистратуры, речь о первой степени бакалавра с преподавательской лицензией.
Учатся ли магистранты каждый день?
У нас никто не учится каждый день. Ни магистранты, ни студенты программы педагогических лицензий. Обычно в университетах учатся 3, ну максимум 4 дня в неделю. Практически все студенты работают, и университеты учитывают это при составлении учебных программ. В ряде университетов каждый студент сам себе строит учебную программу. И при известном усилии можно эту программу выполнить за 2 года, можно уложиться в 3 или растянуть на 4 года. Официально бакалавриат продолжается 3 года. Но часть программы (курсы по выбору) и даже последовательность прохождения курсов определяет сам студент. В целом всё очень вариативно, каждый сам себе выстраивает образовательный маршрут. При этом существует определенное количество учебных часов, которые требуются для того, чтобы получить степень бакалавра театральных искусств с преподавательской лицензией. Обычно это занимает 5 лет, и обладатели таких лицензий востребованы, поскольку у нас много общеобразовательных школ, где открыты отделения театрального искусства.
Брошюры не носят методического характера, они рассказывают о спектакле. Авторы, пишущие для этих брошюр, как правило, стараются говорить не сложно, не научным языком. Они рассказывают о том, что с их точки зрения важно для понимания тематики и языка спектакля.
В Израиле принято готовить детей к посещению спектакля. В многих школах – это норма. Принято обсуждать спектакли. Особенно это распространено в хороших детских садах. В Иерусалиме есть Центр кукольного театра, постоянно работающий с довольно большим количеством детских садов. У них есть свой методический отдел, и новые постановки они сначала "проверяют" на детях из тех детских садов, что приходят к ним регулярно. Перед просмотром детям рассказывают что-то о теме спектакля, или, если это особый язык, то о языке спектакля. После просмотра беседуют об увиденном.
Методики – отдельная и, серьезная тема. Её изучают и разрабатывают университетские отделения театральной педагогики, предназначенные для людей с базовым театральным образованием – академическим или практическим, намерение которых связать свою профессиональную карьеру с преподаванием театра в школе или в городских и районных культурных центрах. Человека, у которого есть преподавательская лицензия, скорее возьмут на педагогическую работу, и он будет получать лучшую зарплату, чем, скажем, актер, работающий с детьми, но не имеющий лицензии. Право на выдачу такой лицензии имеют только институты высшего образования – университеты или колледжи. Несколько лет я преподавала на кафедре педагогики художественных искусств в Академическом педагогическом колледже имени Давида Елина в Иерусалиме. Эта кафедра составлена из отделений драматического театра, музыки, танца и пластических искусств. Выпускники этих отделений могут поступить на двухлетние курсы театральной педагогики и получить лицензию на преподавание. Это довольно серьезная программа, которая включает занятия по психологии и социальным наукам. Актеры, закончив профессиональную актерскую школу без диплома о высшем образовании, могут пойти в университет или колледж, дополнить имеющиеся у них знания определенным количеством историко-теоретических курсов, получить степень бакалавра и после этого пройти двухлетние курсы по театральной педагогике. Конечно, как мы хорошо знаем, без интуиции невозможно заниматься какой бы то ни было творческой деятельностью, в том числе и театральной педагогикой. Но в дополнение к интуиции тут предлагаются знания и вполне академический двухгодичный курс, выпускники которого получают лицензию и право на преподавание.
Сколько учебных часов в двухгодичной программе обучения специалистов?
Примерно 80 академических часов. Эта информация есть в открытом доступе, онлайн на сайтах университетов и колледжей. Такая программа не считается заменой магистратуры, речь о первой степени бакалавра с преподавательской лицензией.
Учатся ли магистранты каждый день?
У нас никто не учится каждый день. Ни магистранты, ни студенты программы педагогических лицензий. Обычно в университетах учатся 3, ну максимум 4 дня в неделю. Практически все студенты работают, и университеты учитывают это при составлении учебных программ. В ряде университетов каждый студент сам себе строит учебную программу. И при известном усилии можно эту программу выполнить за 2 года, можно уложиться в 3 или растянуть на 4 года. Официально бакалавриат продолжается 3 года. Но часть программы (курсы по выбору) и даже последовательность прохождения курсов определяет сам студент. В целом всё очень вариативно, каждый сам себе выстраивает образовательный маршрут. При этом существует определенное количество учебных часов, которые требуются для того, чтобы получить степень бакалавра театральных искусств с преподавательской лицензией. Обычно это занимает 5 лет, и обладатели таких лицензий востребованы, поскольку у нас много общеобразовательных школ, где открыты отделения театрального искусства.
Театральная педагогика в школах Израиля
Программа израильских школьных отделений театра во многом уникальна. У меня были международные проекты, связанные с немецкой системой школьной педагогики, и оказалось, что мы сами не сознавали, насколько креативны наши программы школьного театрального образования. Сопоставляя с германским опытом, оценили разнообразие наших программ, увидели, как много возможностей они предоставляют для творческой мысли и учителей, и учеников.
Что же такого своего особенного у вас есть, по сравнению с Германией, которая считается лидером в области школьной театральной педагогики? Какие тут есть виды деятельности?
Я недостаточно хорошо знаю немецкую систему, всерьез могу говорить лишь про особенности израильской школьной педагогики. Креативная практика в наших школах сосуществует с анализом, занятия строятся по лабораторному принципу. В занятиях театром важным оказывается не только радость создания спектакля, но игровые пути получения знаний о театральном мышлении, истории, направлениях актерского и режиссерского искусства. Я говорю об этом на основании международной лаборатории, которую мы проводили 10 лет тому назад вместе с германской группой специалистов по школьной театральной педагогике. Там были достаточно известные специалисты, их поразили наши школьные театральные отделения.
Кто именно там был?
Инициатором лаборатории была Германская федеральная ассоциация "Театр и школа", мы сотрудничали с куратором этой ассоциации Утой Хандверг и с отделением театральной педагогики в Берлинском университете свободных искусств. Хандверг занималась немецкой частью лаборатории, я - израильской. В Университете свободных искусств у нас был продуктивный диалог с профессором Утой Пинкерт, очень интересным исследователем в области театральной педагогики для сложных подростков. Думали даже о проекте совместного сборника статей. Но развития это не имело.
Если вернуться к израильской программе школьного театрального образования, то я хотела бы подчеркнуть, что самым важным здесь оказывается сама система, не отдельные талантливые педагоги, но педагогическая модель. В старших классах школы, достигнув 16-ти лет, дети выбирают себе направление для более углубленных занятий по определенным предметам. Это может быть литература, пластические искусства, кино, музыка, театр, химия, физика, математика... И надо сказать, что многие с большим удовольствием идут учиться на театральные отделения, важнейшим достоинством которых является гибкость и динамика развития. Программы школьных театральных отделений на самом деле все время меняются под влиянием новых педагогических методик и социально-художественного опыта современного театра.
Эти программы также создаются экспертными советами. В Министерстве просвещения есть отдел театрального образования, во главе отдела стоит референт, имеющий специальное педагогическое образование, выполняющий, по сути, функции директора. Директор создает Совет по театральному образованию, состоящий из академических ученых и театральных педагогов, часть из которых преподает театр в школах. Последнее важно, дабы идеи Совета не были бы совершенно оторваны от практики. И вот такой Совет работает год – полтора, анализируя существующие методики, внося поправки и вырабатывая общие принципы. На основе этих принципов создаётся программа. Программа, созданная в 2009, была написана председателем этого Совета на основе довольно длительного периода работы. Я думаю, что она была замечательная. Она была лучше наших университетских программ.
На какие принципы она опиралась, что там было главное?
Главным там было системное представление процессов, происходивших в истории театра в прошлом и происходящих сейчас, раскрытие связей и влияний, сопоставление разных перформативных моделей.
Ученикам читают лекции, или ребята играют в эстетику этих театров?
Есть разные пути обучения. Существует лекционная часть, но она связана с практическими занятиями, где предлагаются театральные упражнения в контексте той или иной эстетики, изучаемой на историко-теоретических уроках. Таким образом очевидной становится связь между теорией и практикой в исторической перспективе. В отличие от этого в университетах, где студенты сами составляют себе программы, системный характер знания временами теряется. Возникает мозаичность, и считается, что студенты могут сами заполнять образующиеся лагуны, но совсем не всегда так происходит. Впрочем, это мировая проблема. В Германии я беседовала с юной девушкой, которая заканчивала параллельно журналистское отделение и немецкую лингвистику. Впервые в жизни от меня она услышала о двух величайших писателях европейского модернизма – Ибсене и Чехове. Это была умная, хорошая девочка, она хорошо училась и многому научилась в университете, и не ее вина, что «новая драма» прошла мимо. Это вина современной модели образования. Когда-то классическое немецкое образование строилось иначе и возможности таких провалов не подразумевало так же, впрочем, как и российское образование, которое создавалось по образу классического немецкого. И в Израиле прежде в какой-то мере работали те же принципы.
Как мне кажется, проблема нашего классического образования в том, что теория театра отдельно, история театра отдельно, а актерское и режиссёрское мастерство вообще оторвано и от того, и от другого. И то, что происходит на истории театра, актеры, как правило, пропускают мимо ушей, потому что их психофизическому аппарату это ничего не говорит. Чрезвычайно важно, чтобы они попробовали себя в конкретных стилистиках прошлого: в эпическом греческом театре, в гротескной комедия дель арте, в статуарном каноническом театре классицизма и так далее. То есть, мне кажется, важно, чтобы ощущение разных эстетик актёрской игры вошло в психофизику, а не осталось где-то в академической аудитории.
Совершенно с вами согласна. Именно это и принесено было в израильские школы в соответствии с той программой, которая была принята в 2009 году. С одной стороны, история и теория, с другой, изучение связи и взаимовлияний теории и практики. Это давало понимание того, как из разных систем вырастает язык театра, или как язык театра влияет на создание теоретических систем. Программа также предлагала замечательную свободу педагогам для развития собственных методик. Она просуществовала примерно до 2019 года. С моей точки зрения хорошо было бы дать еще какое-то время именно этой программе. Но, с другой стороны, потрясающе само решение, что непрерывное обновление необходимо. И в результате создана была новая программа.
Новая идея заключалась в том, что систематическое театральное образование должны давать университеты, а не школы. Задачи школьного театрального образования – в другом. В школах важнее заниматься развитием креативности, механизмов понимания и поиском того, как идеи могут быть выражены в сценическом пространстве. Интересно, что при этом программа стала носить более мультидисциплинарный характер. В соответствии с духом времени в школах возник театр с элементами этнографии, социологии, истории, – любой области знания, которая представляется особенно интересной и важной конкретному педагогу, преподающему в рамках этой программы. Вся работа должна выстраиваться вокруг некой большой идеи, которая определяет динамику занятий. Сократились часы на историко-теоретические темы с фронтальными лекциями. Хотя во многом, какой будет конкретная программа в конкретной школе решается самими педагогами и руководителями театральных отделений. Есть определённые методики, предлагаемые педагогам, и на основании этих методик они сами очень многое могут создавать.
Вокруг каких идей может крутиться такое театральное проектирование?
Берутся самые общие идеи: диалог, гуманизм, отношение к другому. Осознание того, что другой, с одной стороны, такой же человек, как ты, но вместе с тем у него есть право на собственный мир и на собственные мысли и чувства. Для того, чтобы понять другого нельзя сосредотачиваться на себе, исходить лишь из собственных представлений, и, как писал Эмануэль Левинас, нельзя требовать от другого быть похожим на тебя.
В качестве большой идеи может быть избрана и эстетическая идея. Абсурд, например.
Конечно, никто не будет представлять детям черную картину мира, но абсурд вполне может присутствовать как тема. Театр абсурда, элементы абсурда в разных временах и у разных драматургов и режиссеров – тема замечательно интересная. Словом, берется некая идея или тема, изучается какое она имела выражение в театре, и вокруг нее выстраивается работа.
Что же такого своего особенного у вас есть, по сравнению с Германией, которая считается лидером в области школьной театральной педагогики? Какие тут есть виды деятельности?
Я недостаточно хорошо знаю немецкую систему, всерьез могу говорить лишь про особенности израильской школьной педагогики. Креативная практика в наших школах сосуществует с анализом, занятия строятся по лабораторному принципу. В занятиях театром важным оказывается не только радость создания спектакля, но игровые пути получения знаний о театральном мышлении, истории, направлениях актерского и режиссерского искусства. Я говорю об этом на основании международной лаборатории, которую мы проводили 10 лет тому назад вместе с германской группой специалистов по школьной театральной педагогике. Там были достаточно известные специалисты, их поразили наши школьные театральные отделения.
Кто именно там был?
Инициатором лаборатории была Германская федеральная ассоциация "Театр и школа", мы сотрудничали с куратором этой ассоциации Утой Хандверг и с отделением театральной педагогики в Берлинском университете свободных искусств. Хандверг занималась немецкой частью лаборатории, я - израильской. В Университете свободных искусств у нас был продуктивный диалог с профессором Утой Пинкерт, очень интересным исследователем в области театральной педагогики для сложных подростков. Думали даже о проекте совместного сборника статей. Но развития это не имело.
Если вернуться к израильской программе школьного театрального образования, то я хотела бы подчеркнуть, что самым важным здесь оказывается сама система, не отдельные талантливые педагоги, но педагогическая модель. В старших классах школы, достигнув 16-ти лет, дети выбирают себе направление для более углубленных занятий по определенным предметам. Это может быть литература, пластические искусства, кино, музыка, театр, химия, физика, математика... И надо сказать, что многие с большим удовольствием идут учиться на театральные отделения, важнейшим достоинством которых является гибкость и динамика развития. Программы школьных театральных отделений на самом деле все время меняются под влиянием новых педагогических методик и социально-художественного опыта современного театра.
Эти программы также создаются экспертными советами. В Министерстве просвещения есть отдел театрального образования, во главе отдела стоит референт, имеющий специальное педагогическое образование, выполняющий, по сути, функции директора. Директор создает Совет по театральному образованию, состоящий из академических ученых и театральных педагогов, часть из которых преподает театр в школах. Последнее важно, дабы идеи Совета не были бы совершенно оторваны от практики. И вот такой Совет работает год – полтора, анализируя существующие методики, внося поправки и вырабатывая общие принципы. На основе этих принципов создаётся программа. Программа, созданная в 2009, была написана председателем этого Совета на основе довольно длительного периода работы. Я думаю, что она была замечательная. Она была лучше наших университетских программ.
На какие принципы она опиралась, что там было главное?
Главным там было системное представление процессов, происходивших в истории театра в прошлом и происходящих сейчас, раскрытие связей и влияний, сопоставление разных перформативных моделей.
Ученикам читают лекции, или ребята играют в эстетику этих театров?
Есть разные пути обучения. Существует лекционная часть, но она связана с практическими занятиями, где предлагаются театральные упражнения в контексте той или иной эстетики, изучаемой на историко-теоретических уроках. Таким образом очевидной становится связь между теорией и практикой в исторической перспективе. В отличие от этого в университетах, где студенты сами составляют себе программы, системный характер знания временами теряется. Возникает мозаичность, и считается, что студенты могут сами заполнять образующиеся лагуны, но совсем не всегда так происходит. Впрочем, это мировая проблема. В Германии я беседовала с юной девушкой, которая заканчивала параллельно журналистское отделение и немецкую лингвистику. Впервые в жизни от меня она услышала о двух величайших писателях европейского модернизма – Ибсене и Чехове. Это была умная, хорошая девочка, она хорошо училась и многому научилась в университете, и не ее вина, что «новая драма» прошла мимо. Это вина современной модели образования. Когда-то классическое немецкое образование строилось иначе и возможности таких провалов не подразумевало так же, впрочем, как и российское образование, которое создавалось по образу классического немецкого. И в Израиле прежде в какой-то мере работали те же принципы.
Как мне кажется, проблема нашего классического образования в том, что теория театра отдельно, история театра отдельно, а актерское и режиссёрское мастерство вообще оторвано и от того, и от другого. И то, что происходит на истории театра, актеры, как правило, пропускают мимо ушей, потому что их психофизическому аппарату это ничего не говорит. Чрезвычайно важно, чтобы они попробовали себя в конкретных стилистиках прошлого: в эпическом греческом театре, в гротескной комедия дель арте, в статуарном каноническом театре классицизма и так далее. То есть, мне кажется, важно, чтобы ощущение разных эстетик актёрской игры вошло в психофизику, а не осталось где-то в академической аудитории.
Совершенно с вами согласна. Именно это и принесено было в израильские школы в соответствии с той программой, которая была принята в 2009 году. С одной стороны, история и теория, с другой, изучение связи и взаимовлияний теории и практики. Это давало понимание того, как из разных систем вырастает язык театра, или как язык театра влияет на создание теоретических систем. Программа также предлагала замечательную свободу педагогам для развития собственных методик. Она просуществовала примерно до 2019 года. С моей точки зрения хорошо было бы дать еще какое-то время именно этой программе. Но, с другой стороны, потрясающе само решение, что непрерывное обновление необходимо. И в результате создана была новая программа.
Новая идея заключалась в том, что систематическое театральное образование должны давать университеты, а не школы. Задачи школьного театрального образования – в другом. В школах важнее заниматься развитием креативности, механизмов понимания и поиском того, как идеи могут быть выражены в сценическом пространстве. Интересно, что при этом программа стала носить более мультидисциплинарный характер. В соответствии с духом времени в школах возник театр с элементами этнографии, социологии, истории, – любой области знания, которая представляется особенно интересной и важной конкретному педагогу, преподающему в рамках этой программы. Вся работа должна выстраиваться вокруг некой большой идеи, которая определяет динамику занятий. Сократились часы на историко-теоретические темы с фронтальными лекциями. Хотя во многом, какой будет конкретная программа в конкретной школе решается самими педагогами и руководителями театральных отделений. Есть определённые методики, предлагаемые педагогам, и на основании этих методик они сами очень многое могут создавать.
Вокруг каких идей может крутиться такое театральное проектирование?
Берутся самые общие идеи: диалог, гуманизм, отношение к другому. Осознание того, что другой, с одной стороны, такой же человек, как ты, но вместе с тем у него есть право на собственный мир и на собственные мысли и чувства. Для того, чтобы понять другого нельзя сосредотачиваться на себе, исходить лишь из собственных представлений, и, как писал Эмануэль Левинас, нельзя требовать от другого быть похожим на тебя.
В качестве большой идеи может быть избрана и эстетическая идея. Абсурд, например.
Конечно, никто не будет представлять детям черную картину мира, но абсурд вполне может присутствовать как тема. Театр абсурда, элементы абсурда в разных временах и у разных драматургов и режиссеров – тема замечательно интересная. Словом, берется некая идея или тема, изучается какое она имела выражение в театре, и вокруг нее выстраивается работа.
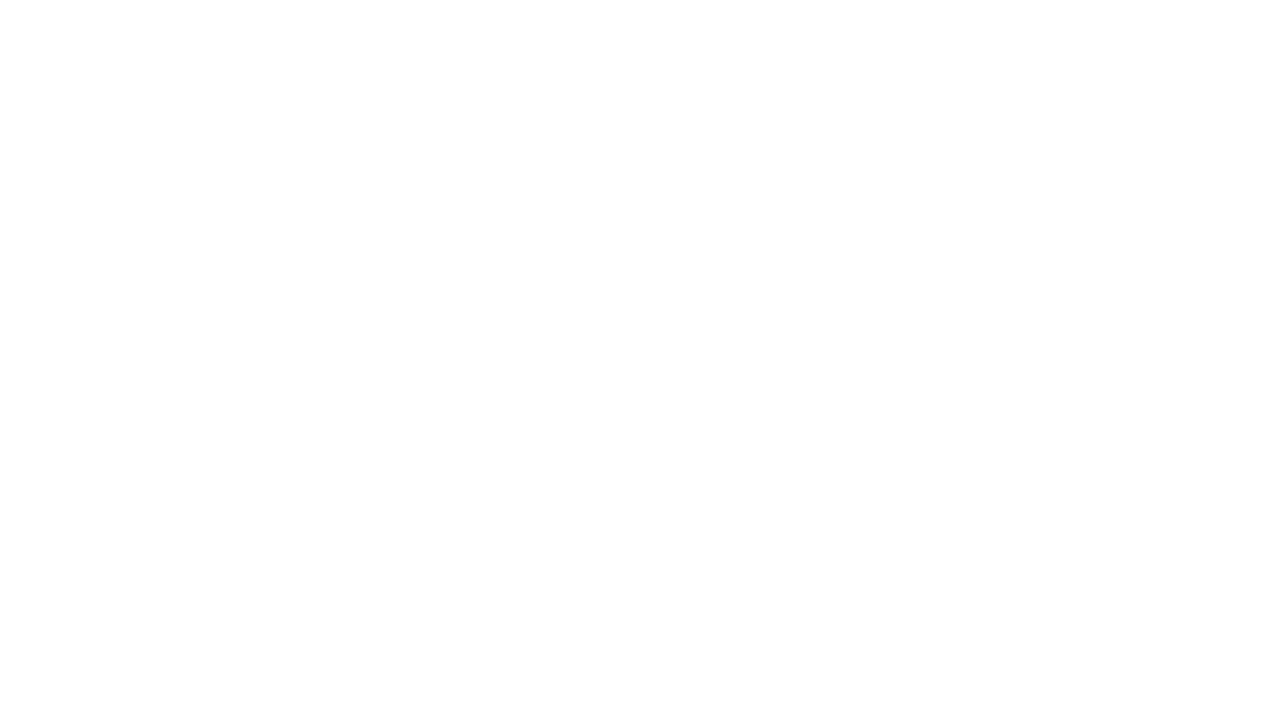
Сцена из спектакля "Скандал в гетто". Театральное отделение средней школы в Тивоне. Руководитель постановки - Йонатан Леви. Фото из архива театра.
А кто выбирает тему: педагог или дети?
Педагог. Если педагог хочет, он может это делать вместе с детьми. Вообще говоря, израильские дети очень инициативны. Многие студенты нашей кафедры приходили в университет после школьных театральных отделений. Они вспоминали эти театральные отделения, как самое чудесное время своей жизни. В школьном театральном образовании видимо было больше креативной практики. Кафедра театра в Иерусалимском университете, где я много лет преподавала, в основе своей историко-теоретическая, но на протяжении трех лет бакалавриата каждый студент должен сделать минимум 3 лабораторных курса по актерскому мастерству, движению и сценической речи. Проблема в том, что практические и теоретические занятия были мало связаны друг с другом. Многим студентам хотелось большего соединения практического с теоретическим. И думаю, что они правы. В последние года 3 – 4 своего преподавания я стала работать вместе с талантливой режиссеркой Орьян Лившиц, приглашая её на свои чисто теоретические курсы.
Педагог. Если педагог хочет, он может это делать вместе с детьми. Вообще говоря, израильские дети очень инициативны. Многие студенты нашей кафедры приходили в университет после школьных театральных отделений. Они вспоминали эти театральные отделения, как самое чудесное время своей жизни. В школьном театральном образовании видимо было больше креативной практики. Кафедра театра в Иерусалимском университете, где я много лет преподавала, в основе своей историко-теоретическая, но на протяжении трех лет бакалавриата каждый студент должен сделать минимум 3 лабораторных курса по актерскому мастерству, движению и сценической речи. Проблема в том, что практические и теоретические занятия были мало связаны друг с другом. Многим студентам хотелось большего соединения практического с теоретическим. И думаю, что они правы. В последние года 3 – 4 своего преподавания я стала работать вместе с талантливой режиссеркой Орьян Лившиц, приглашая её на свои чисто теоретические курсы.
Скажем, у меня был авторский курс «Чехов и искусство режиссуры XX века». В рамках этого курса Орьян проводила две, иногда три лаборатории, где студенты, уже зная, как интерпретировали драмы Чехова ведущие режиссеры мирового театра, пытались создать собственное прочтение. Это была достаточно виртуозная творческая работа с текстом. Или, например, в рамках моего спецкурса «Детский театр – теория и практика», Лившиц проводила лаборатории актерского мастерства. Наше сотрудничество было очень продуктивным. Короткие перформансы, созданные в рамках наших курсов, показывались и на студенческих фестивалях, и на международных конференциях. Это был один из самых важных для меня опытов преподавательской работы.
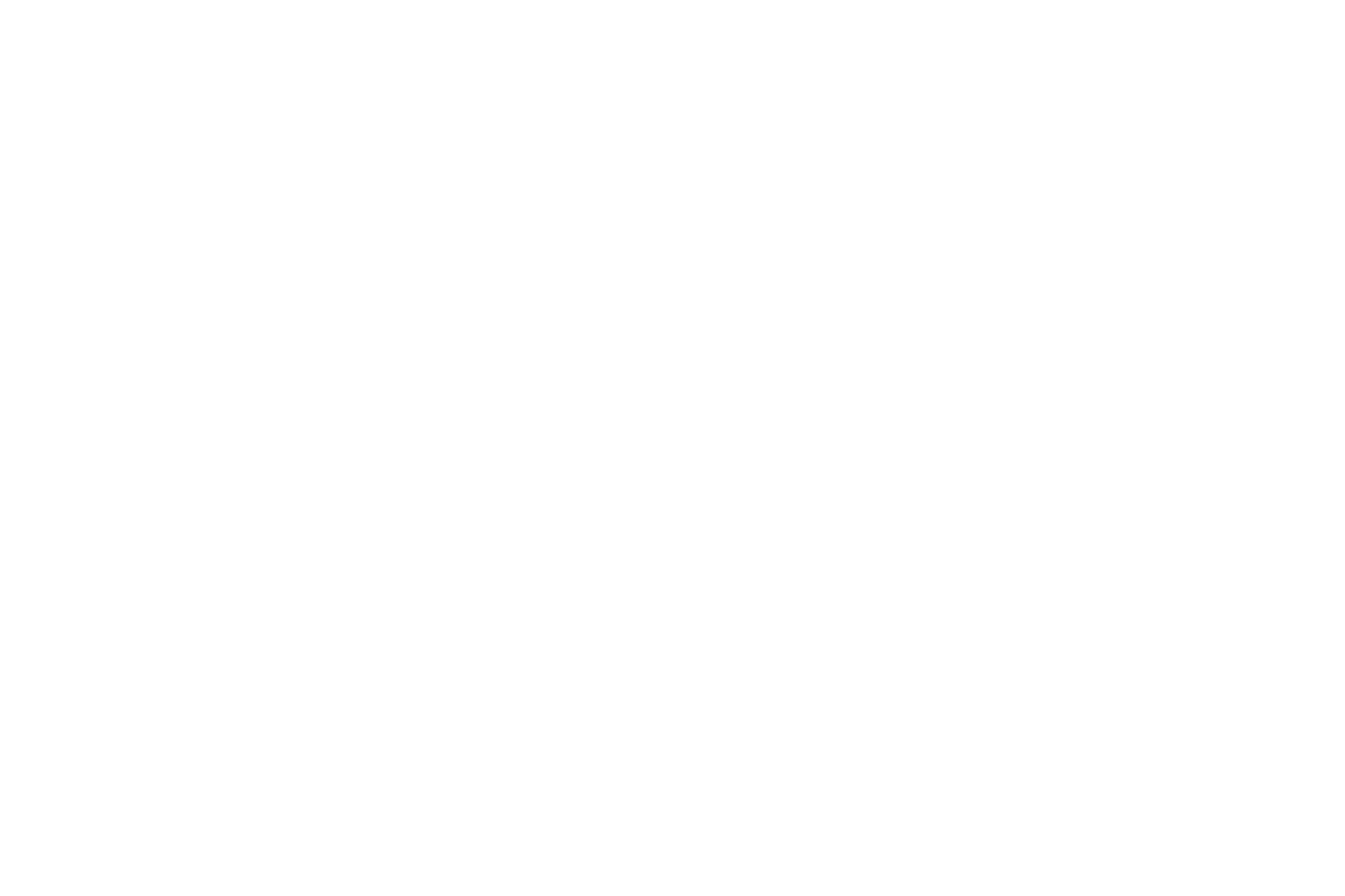
Орьян Лифшиц, фото - Тамар Эйзенберг
Должна сказать, что свое главное театральное образование я получила на репетициях Петра Наумовича Фоменко. Мой диплом написан был по его репетициям, и думаю, что там я и научилась понимать театр.
Интересно, что в этом году снова вносятся изменения в школьные программы изучения театра. Сейчас происходит сближение школ с университетами, академизация школьного образования. Предполагается, что основы теории и истории театра школьники будут изучать при участии университетских преподавателей.
Насколько для школьного театра в Израиле важна тема подготовки квалифицированного зрителя? И, если важна, то как это происходит?
Специальной подготовкой зрителя никто не занимается. Но, как я говорила, есть субсидированные для всех школьников посещения театров. К посещениям готовятся с помощью той же «Корзины культуры», рассылающей для учителей материалы о спектаклях. С помощью этих материалов выбираются спектакли. Школьные учителя выступают как агенты театрального воспитания. Основное внимание уделяется их подготовке. В школах с усиленным изучением сценических искусств совместные посещения театров осуществляются несколько раз в год. Эти посещения входят в программу театральных отделений и всегда сопровождаются подготовкой к просмотру, анализом и обсуждением увиденного. Многое тут зависит от педагога.
Получается, только старшие дети имеют возможность ходить в театр? С первого класса детей не водят в обязательном порядке?
Нет, такое театральное воспитание касается учеников и младших, и старших классов. По закону каждый ребенок в течение года имеет право и даже должен посмотреть минимум 3 спектакля. Это субсидируется бюджетом Министерства просвещения.
А насколько в Израиле приветствуются формы социального театра и театральные способы решения проблем местного сообщества? Насколько социальный театр распространён в школе?
Многое зависит от педагога, ведущего занятия на театральном отделении. В принципе процесс обучения там завершается созданием спектакля. Спектакль – это конечный продукт. Он может быть более, чем социальным. Один из наших режиссеров-новаторов, Йонатан Леви, руководит работой над социальными спектаклями в школе, где он преподает.
Интересно, что в этом году снова вносятся изменения в школьные программы изучения театра. Сейчас происходит сближение школ с университетами, академизация школьного образования. Предполагается, что основы теории и истории театра школьники будут изучать при участии университетских преподавателей.
Насколько для школьного театра в Израиле важна тема подготовки квалифицированного зрителя? И, если важна, то как это происходит?
Специальной подготовкой зрителя никто не занимается. Но, как я говорила, есть субсидированные для всех школьников посещения театров. К посещениям готовятся с помощью той же «Корзины культуры», рассылающей для учителей материалы о спектаклях. С помощью этих материалов выбираются спектакли. Школьные учителя выступают как агенты театрального воспитания. Основное внимание уделяется их подготовке. В школах с усиленным изучением сценических искусств совместные посещения театров осуществляются несколько раз в год. Эти посещения входят в программу театральных отделений и всегда сопровождаются подготовкой к просмотру, анализом и обсуждением увиденного. Многое тут зависит от педагога.
Получается, только старшие дети имеют возможность ходить в театр? С первого класса детей не водят в обязательном порядке?
Нет, такое театральное воспитание касается учеников и младших, и старших классов. По закону каждый ребенок в течение года имеет право и даже должен посмотреть минимум 3 спектакля. Это субсидируется бюджетом Министерства просвещения.
А насколько в Израиле приветствуются формы социального театра и театральные способы решения проблем местного сообщества? Насколько социальный театр распространён в школе?
Многое зависит от педагога, ведущего занятия на театральном отделении. В принципе процесс обучения там завершается созданием спектакля. Спектакль – это конечный продукт. Он может быть более, чем социальным. Один из наших режиссеров-новаторов, Йонатан Леви, руководит работой над социальными спектаклями в школе, где он преподает.
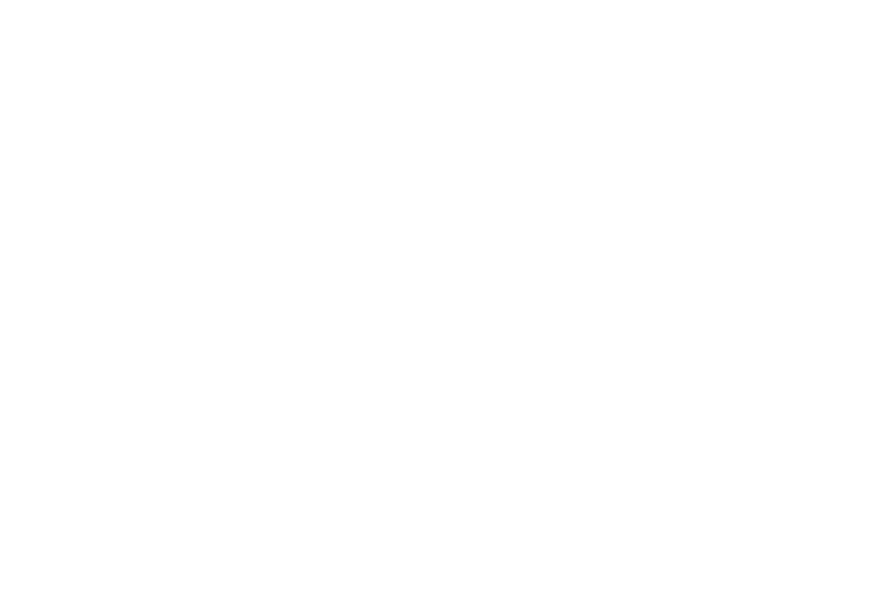
Йонатан Леви; фото – Ахарале.
Он развивает жанр «судебной драмы», спектаклей, поставленных по аутентичным судебным или следственным протоколам. Через исполнение этих текстов Леви вместе со своими учениками вскрывает лживость и лицемерие тех или иных общественно-политических инстанций. Словом, если социальный театр интересен педагогу, он предлагает это своим ученикам. Тут специальных предписаний нет. Главное – развитие креативности. А вот какими путями это делается педагог решает самостоятельно.
Существует ли внедрение театральных практик в общеобразовательный урок? Используются ли практики проживания, импровизации, партнерского взаимодействия, микро драматургического творчества не ради театра, а ради урока?
Я знаю, что в Англии этим давно и успешно занимаются. В Израиле активно применяют такие методики в системе детских садов. Еще до 1948 г. здесь были детские сады, работавшие по системе Фридриха Фребля, где игровое и театральное начало занимали важное место.
Есть ли в Израиле что-то вроде детских школ искусств, детских театральных студий? Или все происходит только в школе?
В принципе система театральных отделений в школах настолько хороша, и она так много дает детям, что те, кто хотят заниматься театром, поступают в школы с театральными отделениями. Но, при этом, скажем, в Иерусалиме есть Городской центр любительского театра имени Нурит Кацир. Он был создан в 1978-м году по инициативе президента Израиля. Там под руководством профессиональных актеров и режиссеров проходят студийные занятия для детей разных возрастов. Каждая возрастная группа конце года выпускает спектакль. Художественный руководитель Центра во многом определяет его работу, приглашает преподавателей. Бывает, что приглашают режиссера без педагогической лицензии, но с педагогическим опытом и, главное, хорошей интуицией.
А в школьных и внешкольных театрах бывают какие-то фестивали?
Я знаю, что в Англии этим давно и успешно занимаются. В Израиле активно применяют такие методики в системе детских садов. Еще до 1948 г. здесь были детские сады, работавшие по системе Фридриха Фребля, где игровое и театральное начало занимали важное место.
Есть ли в Израиле что-то вроде детских школ искусств, детских театральных студий? Или все происходит только в школе?
В принципе система театральных отделений в школах настолько хороша, и она так много дает детям, что те, кто хотят заниматься театром, поступают в школы с театральными отделениями. Но, при этом, скажем, в Иерусалиме есть Городской центр любительского театра имени Нурит Кацир. Он был создан в 1978-м году по инициативе президента Израиля. Там под руководством профессиональных актеров и режиссеров проходят студийные занятия для детей разных возрастов. Каждая возрастная группа конце года выпускает спектакль. Художественный руководитель Центра во многом определяет его работу, приглашает преподавателей. Бывает, что приглашают режиссера без педагогической лицензии, но с педагогическим опытом и, главное, хорошей интуицией.
А в школьных и внешкольных театрах бывают какие-то фестивали?
Дети и профессиональный театр в Израиле
Примерно 20 лет существовал отличный ежегодный фестиваль школьных спектаклей с конкурсом, премиями. Он проходил в Холоне, городе-спутнике тель-авивского мегаполиса. Несколько раз я принимала участие в жюри этого фестиваля. К сожалению, нашей жизнью управляют бюрократы. Года 3-4 тому назад кто-то из бюрократов сказал, что слишком много денежных средств уходит на проведение фестиваля школьных спектаклей, и его закрыли. До недавнего времени был аналогичный фестиваль в Галилее. Но в этом году Галилея стала военной зоной, дети там сидели в бомбоубежищах, поэтому говорить не о чем. Будем надеяться, что фестиваль вернется после окончания войны, но какое-то время должно пройти, чтобы нечто возродилось. Сейчас есть фестивали спектаклей для детей, но не самих детей. Их довольно много, и большие репертуарные театры стали делать свои детские фестивали.
А много ли профессиональных театров для детей в Израиле?
Их много, но по-настоящему хороших мало. Часть актеров относится к этому, как к дополнительному заработку. Есть неплохие детские спектакли в репертуарных театрах.
А между хорошими профессиональными театрами и школьными театральными отделениями существуют какие-то отношения: дружба, патронаж, совместные программы?
А много ли профессиональных театров для детей в Израиле?
Их много, но по-настоящему хороших мало. Часть актеров относится к этому, как к дополнительному заработку. Есть неплохие детские спектакли в репертуарных театрах.
А между хорошими профессиональными театрами и школьными театральными отделениями существуют какие-то отношения: дружба, патронаж, совместные программы?
Такие отношения возникают время от времени, если кто-то проявляет инициативу. Чаще всего инициаторами становятся педагоги школьных театральных отделений. Встречи с артистами профессиональных театров и обсуждения организуются постоянно проектом «Корзина культуры». Центр кукольного детского театра в Иерусалиме успешно работает со зрителями детсадовского и младшего школьного возраста. Они работают и с городскими детскими комьюнити, выходят на игровые площадки, и к себе приглашают детей, организуют проекты с участием детей.
В 1970-е годы по инициативе актрисы Камерного театра Орны Порат был создан репертуарный детский театр. Сегодня он носит её имя.
В 1970-е годы по инициативе актрисы Камерного театра Орны Порат был создан репертуарный детский театр. Сегодня он носит её имя.
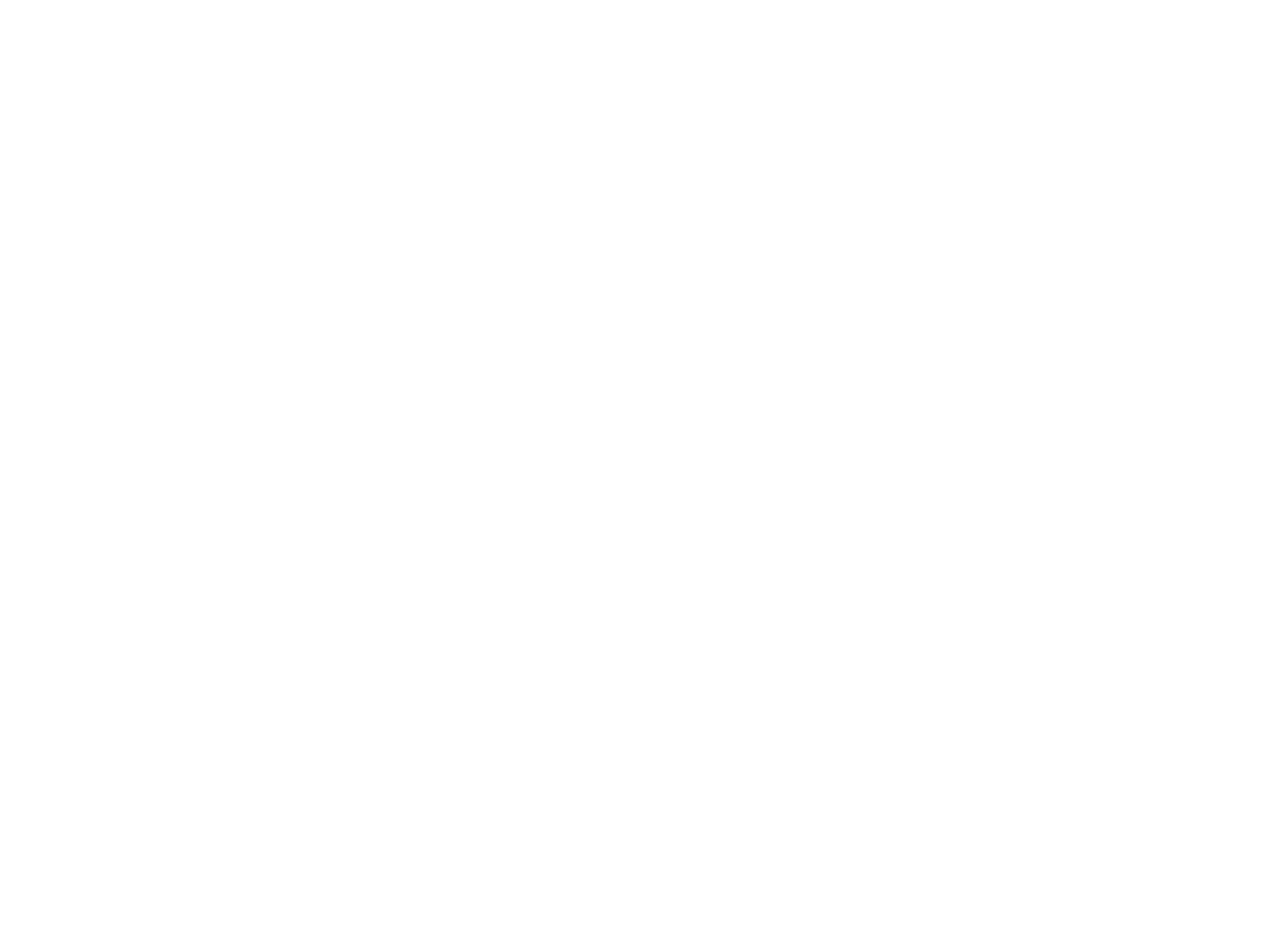
Театр Орны Порат
Порат была замечательной трагической актрисой немецкого происхождения, приехала в Израиль после окончания Второй мировой войны, и стала одной из звезд израильской сцены. В какой-то момент своей жизни она решила, что хочет создать детский театр.
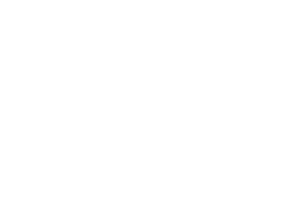
Орна Порат
В Германии прошли её молодые годы и начало театральной деятельности. Она входила в антифашистские кружки молодых немецких актеров, собиравшихся тайно для того, чтобы получать правдивую информацию. После окончания Второй мировой войны, она решила, что не хочет играть в немецком театре и для немецкого народа. Сначала хотела уехать в Россию. Это изумило англо-американскую администрацию, управлявшую регионом Кельна, где актриса жила в то время. К ней отправили офицера английской разведки. Офицер оказался молодым человеком еврейского происхождения, связанным с Палестиной. Их первая встреча переросла в роман, она вышла за него замуж, и они вместе уехали в Израиль. Я ещё успела увидеть ее на сцене и видела много её работ в записи. В шестидесятые годы она была потрясающей Электрой, в девяностые – невероятной по трагической мощи Гекубой. Она никогда не боялась текста, не боялась трагических эмоций и при этом обладала замечательной сдержанностью. В разгаре своей блистательной актерской карьеры, она решила, что в Израиле нет хорошего театра для детей и создала детский театр с потрясающим репертуаром. У неё работали лучшие режиссеры и замечательно играли для детей «Двенадцатую ночь» Шекспира. Театр принимал участие в международных фестивалях. Потом в силу возраста она отошла от дел.
Этот театр существует до сих пор, но он уже совсем, не тот, каким был во времена Порат. Там бывают интересные постановки, но в целом – это уже совсем другой театр.
Вообще, существует немало театральных групп, ансамблей, где время от времени появляются интересные работы для детей, в том числе и на альтернативной экспериментальной сцене. В репертуарном театре «Гешер», за последние пару лет сделали несколько хороших спектаклей для детей. Этот театр был создан в Тель-Авиве в начале 1990-х значимыми фигурами московской сцены – Е. Арье и В. Мальцевым. Детские спектакли стали появляться в Габиме. В Камерном театре много лет не сходит со сцены культовый музыкальный спектакль для детей «Уцли-Гуцли», по пьесе израильского поэта и переводчика А. Шлонского. Однако, к сожалению, не могу назвать серьезного репертуарного театра для детей, чьи спектакли всегда были бы на высоком уровне.
Вы можете назвать того, кто с детьми работает интереснее всего и привести какие-то примеры их работы, объяснить, чем она хороша?
С подростками, наверно, интереснее всего работает Йонатан Леви, о котором я уже говорила. Он преподает на театральном отделении в школе на севере Израиля, иногда даже привозит созданные там перформансы для показа в театральных центрах Тель-Авива. У Йонатана нет профессионального режиссерского образования, в университете он изучал философию и педагогику, одновременно ставил спектакли в студенческом театре, в магистратуре занялся театральной педагогикой. Он очень интересен в работе с идеями, с годами стал одним из наиболее ярких режиссеров израильской независимой сцены, автором нескольких культовых мифопоэтических постановок, среди которых наиболее ярким было кабаре о Саддаме Хусейне, где Хуссейн представлен был меланхолическим романтиком. При этом, получив лицензию на преподавание театра, он стал работать с детьми в школе. Леви занимается в основном со старшеклассниками, создает документальный театр и следует концепции Питера Вайса, утверждавшего, что театр – это независимый голос, озвучивающий собственные версии того, что происходит в окружающей действительности. Ученики обожают его.
Этот театр существует до сих пор, но он уже совсем, не тот, каким был во времена Порат. Там бывают интересные постановки, но в целом – это уже совсем другой театр.
Вообще, существует немало театральных групп, ансамблей, где время от времени появляются интересные работы для детей, в том числе и на альтернативной экспериментальной сцене. В репертуарном театре «Гешер», за последние пару лет сделали несколько хороших спектаклей для детей. Этот театр был создан в Тель-Авиве в начале 1990-х значимыми фигурами московской сцены – Е. Арье и В. Мальцевым. Детские спектакли стали появляться в Габиме. В Камерном театре много лет не сходит со сцены культовый музыкальный спектакль для детей «Уцли-Гуцли», по пьесе израильского поэта и переводчика А. Шлонского. Однако, к сожалению, не могу назвать серьезного репертуарного театра для детей, чьи спектакли всегда были бы на высоком уровне.
Вы можете назвать того, кто с детьми работает интереснее всего и привести какие-то примеры их работы, объяснить, чем она хороша?
С подростками, наверно, интереснее всего работает Йонатан Леви, о котором я уже говорила. Он преподает на театральном отделении в школе на севере Израиля, иногда даже привозит созданные там перформансы для показа в театральных центрах Тель-Авива. У Йонатана нет профессионального режиссерского образования, в университете он изучал философию и педагогику, одновременно ставил спектакли в студенческом театре, в магистратуре занялся театральной педагогикой. Он очень интересен в работе с идеями, с годами стал одним из наиболее ярких режиссеров израильской независимой сцены, автором нескольких культовых мифопоэтических постановок, среди которых наиболее ярким было кабаре о Саддаме Хусейне, где Хуссейн представлен был меланхолическим романтиком. При этом, получив лицензию на преподавание театра, он стал работать с детьми в школе. Леви занимается в основном со старшеклассниками, создает документальный театр и следует концепции Питера Вайса, утверждавшего, что театр – это независимый голос, озвучивающий собственные версии того, что происходит в окружающей действительности. Ученики обожают его.
Другой пример - Ефим Риненберг, также режиссер-новатор, один из создателей иерусалимского театра трудных подростков.
Это был театр с классическим репертуаром, где убежавшие из своих семей дети, исполняли сложнейшие роли. Там был спектакль «Креон» по «Антигоне» с двумя трудными подростками и взрослым, профессиональным актером, Ицхаком Пекарем, кукольником, в прошлом выпускником Ленинградского театрального института и актером театра им. С. Образцова. Он исполнял роль Креонта. А спектакль был о детях, двух подростках: Антигоне и ее женихе, Гемоне, сыне Креонта. Главный акцент Риненберг сделал на конфликте поколений: отношение детей к старшему поколению, и взрослого, умного, всепонимающего, совсем не жестокого отца к запутавшимся, с его точки зрения, детям.
Это был театр с классическим репертуаром, где убежавшие из своих семей дети, исполняли сложнейшие роли. Там был спектакль «Креон» по «Антигоне» с двумя трудными подростками и взрослым, профессиональным актером, Ицхаком Пекарем, кукольником, в прошлом выпускником Ленинградского театрального института и актером театра им. С. Образцова. Он исполнял роль Креонта. А спектакль был о детях, двух подростках: Антигоне и ее женихе, Гемоне, сыне Креонта. Главный акцент Риненберг сделал на конфликте поколений: отношение детей к старшему поколению, и взрослого, умного, всепонимающего, совсем не жестокого отца к запутавшимся, с его точки зрения, детям.
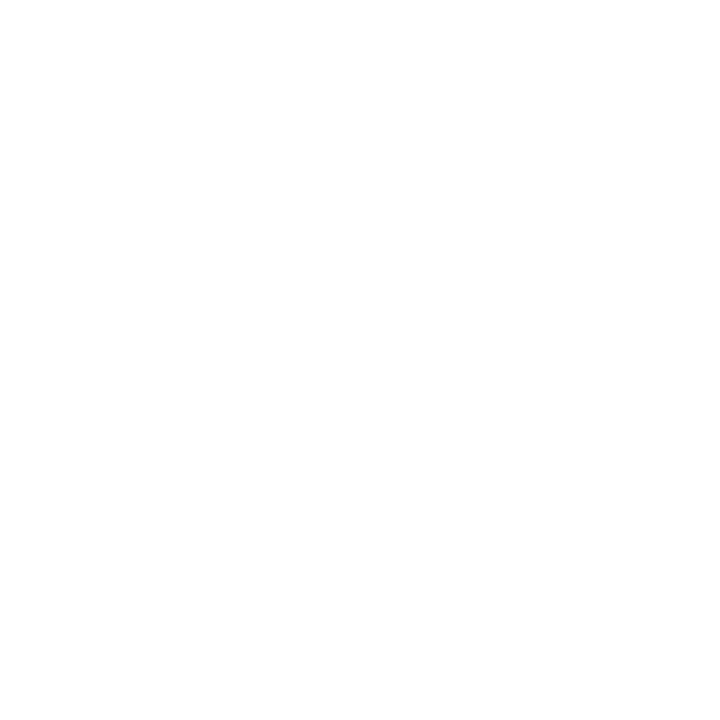
Ефим Риненберг. Фото Е. Голосова.
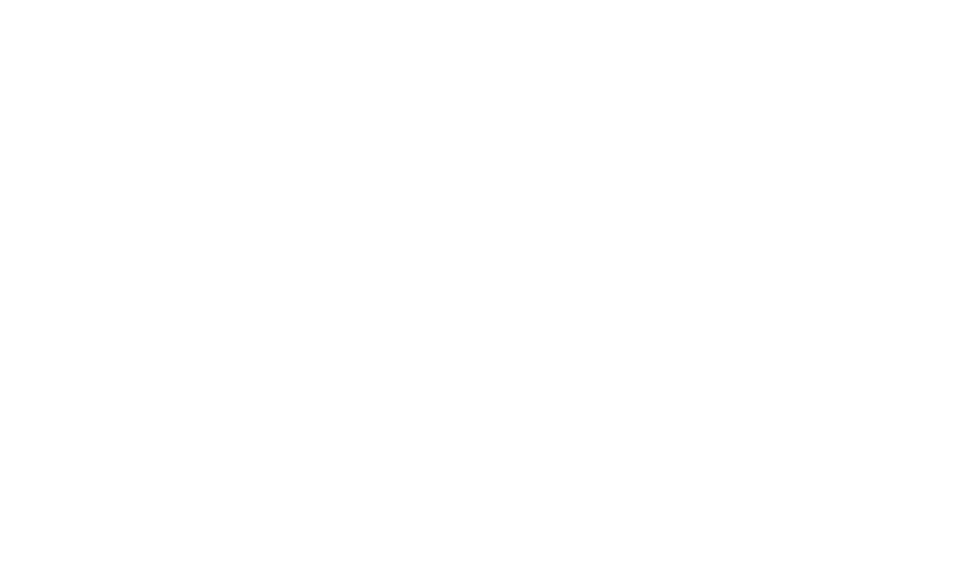
Театр ХаМартеф. Сцена из спектакля "Креон". Бар Биньямин в роли Антигоны, Хаим Софер в роли Геймона.
Фотография из архива театра
Театр и школа в Израиле
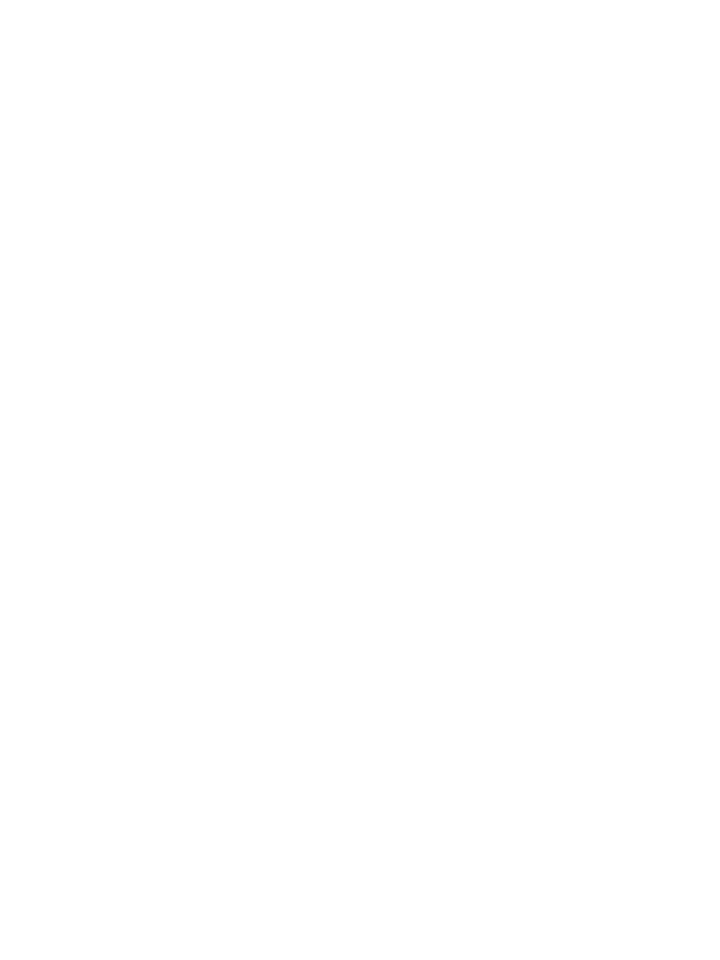
Театр ХаМартеф. Репетиция. Фото из архива театра.
Креонт отстаивал порядок, потому что, если не сохранять порядок, то все исчезнет, будет хаос, в котором невозможно человеческое существование. Дети отстаивали право на нарушение порядка, потому что без этого права исчезает самый смысл человеческого существования. Это был сложный трагический спектакль, и режиссер полагал, что опыт сценического переживания трагического важен для актеров-подростков.
Они делали спектакль больше на основании Ануя или на основании Софокла?
Я бы сказала – на основании Ефима Риненберга, который смешал все. Он взял что-то у Софокла, что-то у Эсхила, добавил Ануя, и создал собственную версию.
Среди тех, кто наиболее интересно работает сегодня с детьми и для детей, та же Орьян Лифшиц, режиссерка, с которой я сотрудничала в университете. Она, кстати, создала в свое время интересный проект Детского театра в Иерусалиме, где каждый месяц показывали новый спектакль по сказке, связанной с еврейским календарем. На каждый месяц – своя сказка.
Они делали спектакль больше на основании Ануя или на основании Софокла?
Я бы сказала – на основании Ефима Риненберга, который смешал все. Он взял что-то у Софокла, что-то у Эсхила, добавил Ануя, и создал собственную версию.
Среди тех, кто наиболее интересно работает сегодня с детьми и для детей, та же Орьян Лифшиц, режиссерка, с которой я сотрудничала в университете. Она, кстати, создала в свое время интересный проект Детского театра в Иерусалиме, где каждый месяц показывали новый спектакль по сказке, связанной с еврейским календарем. На каждый месяц – своя сказка.
В первый год это, конечно, была сумасшедшая работа, потому что каждый месяц выпускали новый спектакль. В основе театрального языка использовалась поэтика брехтовских учебных пьес, где дидактика присутствовала наряду с увлекательным действием. Спектакли пользовались невероятной популярностью у детской аудитории. Дети были зачарованы, ходили на эти спектакли как на сериалы, не хотели пропустить ни одной «серии». Сегодня Орьян создала новый театр в Иерусалиме, назвав его «Публичный театр для детей и взрослых».
В продолжение проекта сказок еврейского календаря, сделанных в брехтовской эстетике, она выпустила два новых абсурдистских спектакля для детей и с участием детей. В последнем – «Мой папа – птица» роль Лиззи, девочки, чей голос является голосом разума, противостоящем безумию взрослых, исполняет тринадцатилетняя девочка.
В продолжение проекта сказок еврейского календаря, сделанных в брехтовской эстетике, она выпустила два новых абсурдистских спектакля для детей и с участием детей. В последнем – «Мой папа – птица» роль Лиззи, девочки, чей голос является голосом разума, противостоящем безумию взрослых, исполняет тринадцатилетняя девочка.
Процесс работы с ней требовал большой деликатности и чуткости. Орьян говорила мне, что, конечно, было очень непросто репетировать с ребенком, следить за тем, чтобы девочка психологически и эмоционально справлялась с ролью и собственным сценическим существованием. Результат превзошел все ожидания. Честно говоря, я просто поразилась, увидев, как ребенок сознательно и креативно живет в сценическом пространстве. Не могу удержаться и не рассказать, как совсем недавно эта девочка, приглашенная выступить на встрече, посвященной открытию Публичного театра для детей и взрослых сказала: «Театр – самое поразительное место на свете, это территория, где мы свободны». Думаю, что такое высказывание уже само по себе является результатом. Орьян собирается и дальше развивать практику участия детей в её постановках.
Если бы Вы сейчас делали программу трехгодичного школьного образования, что бы для вас там сейчас было самым важным, на чем бы вы ее строили прежде всего?
Я не стала бы говорить о самом важном. Должно быть соединение разных равно значимых принципов. Не следует одно развивать за счет другого. Мне представляется, что развитие личной креативности – это очень важный принцип, но не существует противоречия между личным творческим началом и пониманием целостной картины истории и теории театрального искусства. Конечно, на том уровне, на котором это доступно детям. Я считаю, что необходимо соединение трех вещей: целостная картина, креативность, содружество теории и практики. С моей точки зрения это «3 кита», и я бы развивала бы программу таким образом.
Огромное спасибо за беседу. Думаю, мы ещё встретимся, чтобы поговорить отдельно о профессиональном театре для детей в Израиле.
Если бы Вы сейчас делали программу трехгодичного школьного образования, что бы для вас там сейчас было самым важным, на чем бы вы ее строили прежде всего?
Я не стала бы говорить о самом важном. Должно быть соединение разных равно значимых принципов. Не следует одно развивать за счет другого. Мне представляется, что развитие личной креативности – это очень важный принцип, но не существует противоречия между личным творческим началом и пониманием целостной картины истории и теории театрального искусства. Конечно, на том уровне, на котором это доступно детям. Я считаю, что необходимо соединение трех вещей: целостная картина, креативность, содружество теории и практики. С моей точки зрения это «3 кита», и я бы развивала бы программу таким образом.
Огромное спасибо за беседу. Думаю, мы ещё встретимся, чтобы поговорить отдельно о профессиональном театре для детей в Израиле.
*Беседу с Ольгой Левитан вела Александра Никитина
Похожие материалы
Если Вам понравился материал, Вы можете поделиться им, нажав на кнопку внизу
