Светлана Шанская,
Режиссёр театра «Птица», г. Ижевск
Роман с классикой
Статья впервые была опубликована в журнале «Детское творчество» в 2014 году.
Мы в соцсетях
Название «Птица» появилось у нашего театра в 1994 году, когда мы чудом смогли попасть на первый для нас фестиваль, Международный фестиваль камерных театров «Театр на ладони», организованный театром «Парафраз» (г. Глазов). Для столь важного события, на котором мы хоть и показали свой спектакль, но только в качестве гостей, нужно было срочно придумать название, и нам помогла детская песенка «Надо в дорогу мне торопиться. Надо узнать, что я за птица».
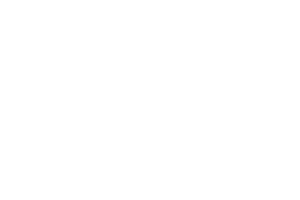
Но коллектив театра «Птица» существует с 1988 года, и самые первые и самые яркие его участники делят свою личную жизнь с жизнью своей «Птицы». С Глазовского фестиваля начинается наше непонятное существование, в котором мы всегда «между»: между профессионалами и любителями (в труппе есть профессиональные актеры, и у театра существует репертуар из спектаклей, идущих уже много лет и из новых премьер). Я – режиссер скорее по призванию, чем по образованию, потому что институт, который я закончила, в своем названии к слову «культура» всегда имел ироническую добавку «и отдыха». Поэтому книги по режиссуре, поездки на театральные фестивали, мастер-классы и обсуждения жюри - для меня важный источник самообразования. А еще Литература, классическая и современная, она дает мне как режиссеру возможность и желание понять себя и рассказать о своем отношении к миру с его радостями и проблемами.
У режиссеров есть такое отправное понятие – «болевая точка». Для меня этот начальный толчок очень важен. Он может возникнуть не сразу после прочтения книги, а иногда через несколько лет. Это отзвук, который откликается на какой-то созвучный вопрос в твоем «Я», на воспоминание из детства, порой мучительное и неразрешенное. Это карта путешествия, в которое мы приглашены на неизвестный срок. Иногда это время может растянуться на месяцы подготовки спектакля и годы его жизни на сцене. У меня нет цензуры, репертуарной политики, я свободна в выборе тем. Интересных пьес, ждущих времени для своего воплощения, много. Иногда я пишу сама сценарии для спектаклей. И все же зачем-то произведение классической литературы мне становится вдруг таким близким, и так хочется познакомить с ним своих актеров, предложив его для этюдов, или просто почитать, поставить для экзамена по сценической речи, или даже сделать спектакль.
Выбор произведения может быть быстрым, как озарение. Так у меня возникло желание сразу, не перечитывая, взять в работу «Войну и мир». «Это безумие, - ставить Толстого», - сказали мои старшие актеры, и, будучи вольными птицами, разлетелись по своим делам. Но во мне уже звучало необъяснимое: «Наташа Ростова… Что с ней и ее семьей стало бы сегодня? Где сейчас это поколение, так ценившее дружбу и преданность, семью и любовь, жившее с глубокой верой в Родину и в Бога?..» Дети, которые не читали Толстого, без страха взялись за работу, к тому же роли взрослых благополучно разошлись между теми, кто все-таки из любопытства остался. И были правы, ведь никогда не знаешь, что может получиться!
И, хотя многие актеры и зрители приносят прочитать заинтересовавшую их пьесу или повесть, выбор произведения, я думаю, должен быть за режиссером. Если случится ему «заболеть»…
Чаще в работу берется то, что давно, а лучше с детства, вплелось в твою жизнь и ждет своего времени для воплощения. «И из собственной судьбы я выдергивал по нитке». Окуджава и Пушкин… Мне показалось, что они родственные души, хоть и жившие в разные времена. Мироощущение Пушкинских сказок сплетено из солнечных нитей, как и песенки Булата Окуджавы. Этот внутренний свет особенно заметен в моменты конфликта, тоже своего рода «войны и мира». «Надежда, я останусь цел…», - это же из детства, когда мы все верим, что никогда-никогда не умрем, а война – это даже интересно, это такая игра, дети в нее поиграют и разойдутся по своим делам. Два автора помогают понять их отношение к миру, к событиям, и не только понять, а присвоить, почувствовать, полюбить.
Пушкин и Окуджава. Цветаева и Маяковский. Тема разрыва, конца отношений, звучит у Маяковского в поэме «Облако в штанах», и особенно глубоко, болезненно у Цветаевой в «Поэме конца». Я объединила в одной работе две эти поэмы, юноши читали Маяковского, а девушки Цветаеву; из предчувствия катастрофы и ее свершения строился сюжет переклички двух судеб. «В любовь» играют у нас только взрослые актеры, после 16-ти, а Наташе и Соне начала романа было тогда по 12 лет, и они были, как и героини романа, лишь в предчувствии любви.
У режиссеров есть такое отправное понятие – «болевая точка». Для меня этот начальный толчок очень важен. Он может возникнуть не сразу после прочтения книги, а иногда через несколько лет. Это отзвук, который откликается на какой-то созвучный вопрос в твоем «Я», на воспоминание из детства, порой мучительное и неразрешенное. Это карта путешествия, в которое мы приглашены на неизвестный срок. Иногда это время может растянуться на месяцы подготовки спектакля и годы его жизни на сцене. У меня нет цензуры, репертуарной политики, я свободна в выборе тем. Интересных пьес, ждущих времени для своего воплощения, много. Иногда я пишу сама сценарии для спектаклей. И все же зачем-то произведение классической литературы мне становится вдруг таким близким, и так хочется познакомить с ним своих актеров, предложив его для этюдов, или просто почитать, поставить для экзамена по сценической речи, или даже сделать спектакль.
Выбор произведения может быть быстрым, как озарение. Так у меня возникло желание сразу, не перечитывая, взять в работу «Войну и мир». «Это безумие, - ставить Толстого», - сказали мои старшие актеры, и, будучи вольными птицами, разлетелись по своим делам. Но во мне уже звучало необъяснимое: «Наташа Ростова… Что с ней и ее семьей стало бы сегодня? Где сейчас это поколение, так ценившее дружбу и преданность, семью и любовь, жившее с глубокой верой в Родину и в Бога?..» Дети, которые не читали Толстого, без страха взялись за работу, к тому же роли взрослых благополучно разошлись между теми, кто все-таки из любопытства остался. И были правы, ведь никогда не знаешь, что может получиться!
И, хотя многие актеры и зрители приносят прочитать заинтересовавшую их пьесу или повесть, выбор произведения, я думаю, должен быть за режиссером. Если случится ему «заболеть»…
Чаще в работу берется то, что давно, а лучше с детства, вплелось в твою жизнь и ждет своего времени для воплощения. «И из собственной судьбы я выдергивал по нитке». Окуджава и Пушкин… Мне показалось, что они родственные души, хоть и жившие в разные времена. Мироощущение Пушкинских сказок сплетено из солнечных нитей, как и песенки Булата Окуджавы. Этот внутренний свет особенно заметен в моменты конфликта, тоже своего рода «войны и мира». «Надежда, я останусь цел…», - это же из детства, когда мы все верим, что никогда-никогда не умрем, а война – это даже интересно, это такая игра, дети в нее поиграют и разойдутся по своим делам. Два автора помогают понять их отношение к миру, к событиям, и не только понять, а присвоить, почувствовать, полюбить.
Пушкин и Окуджава. Цветаева и Маяковский. Тема разрыва, конца отношений, звучит у Маяковского в поэме «Облако в штанах», и особенно глубоко, болезненно у Цветаевой в «Поэме конца». Я объединила в одной работе две эти поэмы, юноши читали Маяковского, а девушки Цветаеву; из предчувствия катастрофы и ее свершения строился сюжет переклички двух судеб. «В любовь» играют у нас только взрослые актеры, после 16-ти, а Наташе и Соне начала романа было тогда по 12 лет, и они были, как и героини романа, лишь в предчувствии любви.
Чтобы поставить «Войну и мир», надо быть Фоменко или Бондарчуком? Чтобы поставить «Войну и мир», надо быть историком или литературоведом? А, может быть, надо иметь точку опоры? Почему материал должен быть адаптирован к возрасту, предписанному учебниками литературы? Маленькая Наташа сталкивается с Пьером и роняет куклу, а большой и нелепый Пьер поднимает ее и долго смотрит на девочку в кружевных панталончиках, замечая ее серьезный взгляд. А когда Наташа играет с Борисом во взрослые игры «про любовь», или Вера находит любовное письмо Сони и дразнит ее, - все эти темы любви и предательства, непонимания и власти так интересны были моим юным актерам!
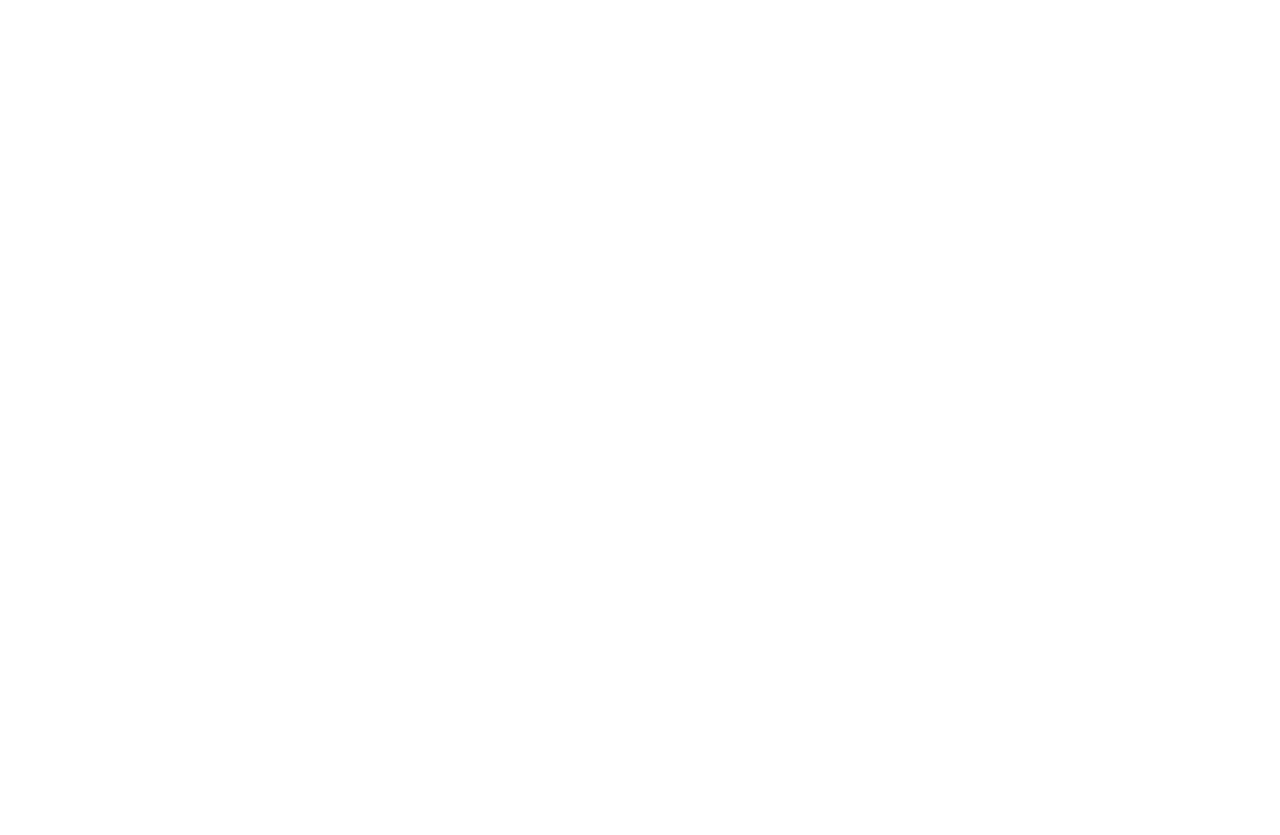
Спектакль "Война и мир"
Есть такой совет режиссерам, думаю, учителям литературы он тоже пригодится. Представьте, что к Вам пришел друг и принес свою книгу, - вот, написал, дарю, можешь изучать, ставить! Это к вопросу о творческой смелости и о сомнениях по поводу своего мнения. Герой или не герой Акакий Акакиевич, - хороший вопрос для совместного поиска, но, когда учитель заявляет: «Акакий Акакиевич – не личность», и любое высказывание учеников воспринимает как покушение на истину, образование превращается в скуку. А для того, чтобы разжечь искру интереса к чтению, нужно быть в постоянном поиске самому и суметь вовлечь в этот поиск своих собеседников, учеников, в театре - актеров и зрителей.
Итак, если есть тот звон, что звучит в унисон с текстом Автора, будьте смелее! А дальше начинается долгий процесс, во время которого надо помнить и не утратить первый толчок.
С романом Саши Соколова «Школа для дураков» я жила четыре года, прежде чем мы начали делать спектакль. А до этого когда-то очень давно прочитанный нереальный, порой без единого знака препинания, текст поразил меня и остался в памяти в образах и ассоциациях. После долгих собственных вопросов и ответов можно дать жизнь этим ассоциациям в совместных с учениками поисках. И тут начнется самое интересное. К примеру, что это за станция, на которой Ты оказался один поздним вечером, нет, уже ночь, фонарь качается и скрипит, мимо проносится поезд, товарный, длинный… И почему-то у каждого в памяти есть такая станция, я услышала ее звуки в первом этюде по тексту Саши Соколова. Я услышала и узнала «свои» цикады, помешивание ложечкой в купе вагона, девушку с букетиком сирени, и я была одновременно и внутри поезда, и на перроне, и в ветках деревьев. Потом это все обретет форму, телесность, а пока очень важен общий настрой, преддверие любви к Автору.
Авторский текст начинает захватывать и требовать себя целиком. После перечитывания «Войны и мира» уже в четвертый раз забываю о своем решении ставить «свое отношение» к роману: такими скудными оказываются собственные мысли. Чтобы не потерять себя, надо уметь «выходить» из материала, оглянуться на свои первые вопросы. Они могут теперь, после проникновения в текст, зазвучать по-другому. Но текст может и обнажить то, что перестало резонировать, развиваться.
Читатель, как и зритель, должен видеть в любой истории свою сегодняшнюю жизнь. Особенно важен разговор о себе, живущем в это время и в этом месте, с подростками. Они вступают в период противоречий, испытаний, возникает потребность понять, контролировать себя в бурных проявлениях. Поэтому темы любви, предательства, одиночества становятся им так необходимы. Но в этом разговоре о жизни всегда должно оставаться место поэзии, Слову, парадоксу, который способен разрушить стереотип восприятия. Твои личные переживания могут быть похожи на переживание героя, но в театре мы создаем особый мир, другую реальность, и в этой реальности к тебе тоже иногда приходит Муза, иногда эта Муза капризна, как та, что пришла к Поэту в «Давайте восклицать» и, увидев его корыстное желание, начала диктовать уже давно известное, написанное другим поэтом: «У Лукоморья дуб зеленый». В состоянии диалога с автором (или Музой), осознаешь вдруг, что Наташа Ростова никогда не стала бы комсомольским вожаком, но могла попасть на глаза Берии, проезжавшим мимо нее в черном авто по улицам Москвы… Что ощущение красоты окружающего мира может быть не только романтичным, то и глубоко трагичным, как у «Другого» Саши Соколова… Что народ всегда надеется на своего Царя, а Царь – на свою Секретаршу («Давайте восклицать» по сказкам Пушкина). Начинается процесс сопереживания с героем.
Для меня всегда важно понять отправную точку в характере героя, его главный вопрос в жизни. И если выбирать, что движет историей, характер или сюжет, я всегда выбираю характер. Характер героя проявляется всегда в реальном действии, которое составляет суть театра. В этом одна из загадок работы с литературой: быть очарованным словом Автора и, находясь к нему в глубоком почтении, суметь расчленить и выбрать только самое нужное для собственного понимания, в том числе и понимания поступков его героев. И если есть болевая точка к произведению в целом, то понимание главного героя тоже приходит через глубоко присвоенную мысль. Может быть, это «зерно» характера, которое, как писал Станиславский, определяет смысл и всего произведения, «и смысл каждой из составляющих его ролей». (К. С. Станиславский, «Работа актера над собой»).
Образ зерна для меня – это не нечто застывшее, хранящее в себе будущий росток, это сила, необъяснимая, заложенная внутри и рвущая любую, даже немыслимую, преграду. Сумел же Акакий Акакиевич преодолеть свою застенчивость и всего себя, чтобы получить свою мечту. Но «Шинель» - это так, к слову. Может быть, когда-нибудь… А Островский и его Бальзаминов в жизни нашего театра имели огромное значение в изменении взглядов на главного героя. Трижды мы брались за эту пьесу, два раза наш Бальзаминов был все тем же глупым Мишей, неудачником, которого ведут обстоятельства, а в третий раз он стал настоящим героем, уверенным, идущим к цели, порой, как Гамлет, находящимся на распутье. Время действия объединило двадцатые годы XX века и наши дни.. И, хотя это страшно звучит, - готовность продаться ради денег, - но наш герой убедителен, он такой, как большинство молодых людей.
Итак, если есть тот звон, что звучит в унисон с текстом Автора, будьте смелее! А дальше начинается долгий процесс, во время которого надо помнить и не утратить первый толчок.
С романом Саши Соколова «Школа для дураков» я жила четыре года, прежде чем мы начали делать спектакль. А до этого когда-то очень давно прочитанный нереальный, порой без единого знака препинания, текст поразил меня и остался в памяти в образах и ассоциациях. После долгих собственных вопросов и ответов можно дать жизнь этим ассоциациям в совместных с учениками поисках. И тут начнется самое интересное. К примеру, что это за станция, на которой Ты оказался один поздним вечером, нет, уже ночь, фонарь качается и скрипит, мимо проносится поезд, товарный, длинный… И почему-то у каждого в памяти есть такая станция, я услышала ее звуки в первом этюде по тексту Саши Соколова. Я услышала и узнала «свои» цикады, помешивание ложечкой в купе вагона, девушку с букетиком сирени, и я была одновременно и внутри поезда, и на перроне, и в ветках деревьев. Потом это все обретет форму, телесность, а пока очень важен общий настрой, преддверие любви к Автору.
Авторский текст начинает захватывать и требовать себя целиком. После перечитывания «Войны и мира» уже в четвертый раз забываю о своем решении ставить «свое отношение» к роману: такими скудными оказываются собственные мысли. Чтобы не потерять себя, надо уметь «выходить» из материала, оглянуться на свои первые вопросы. Они могут теперь, после проникновения в текст, зазвучать по-другому. Но текст может и обнажить то, что перестало резонировать, развиваться.
Читатель, как и зритель, должен видеть в любой истории свою сегодняшнюю жизнь. Особенно важен разговор о себе, живущем в это время и в этом месте, с подростками. Они вступают в период противоречий, испытаний, возникает потребность понять, контролировать себя в бурных проявлениях. Поэтому темы любви, предательства, одиночества становятся им так необходимы. Но в этом разговоре о жизни всегда должно оставаться место поэзии, Слову, парадоксу, который способен разрушить стереотип восприятия. Твои личные переживания могут быть похожи на переживание героя, но в театре мы создаем особый мир, другую реальность, и в этой реальности к тебе тоже иногда приходит Муза, иногда эта Муза капризна, как та, что пришла к Поэту в «Давайте восклицать» и, увидев его корыстное желание, начала диктовать уже давно известное, написанное другим поэтом: «У Лукоморья дуб зеленый». В состоянии диалога с автором (или Музой), осознаешь вдруг, что Наташа Ростова никогда не стала бы комсомольским вожаком, но могла попасть на глаза Берии, проезжавшим мимо нее в черном авто по улицам Москвы… Что ощущение красоты окружающего мира может быть не только романтичным, то и глубоко трагичным, как у «Другого» Саши Соколова… Что народ всегда надеется на своего Царя, а Царь – на свою Секретаршу («Давайте восклицать» по сказкам Пушкина). Начинается процесс сопереживания с героем.
Для меня всегда важно понять отправную точку в характере героя, его главный вопрос в жизни. И если выбирать, что движет историей, характер или сюжет, я всегда выбираю характер. Характер героя проявляется всегда в реальном действии, которое составляет суть театра. В этом одна из загадок работы с литературой: быть очарованным словом Автора и, находясь к нему в глубоком почтении, суметь расчленить и выбрать только самое нужное для собственного понимания, в том числе и понимания поступков его героев. И если есть болевая точка к произведению в целом, то понимание главного героя тоже приходит через глубоко присвоенную мысль. Может быть, это «зерно» характера, которое, как писал Станиславский, определяет смысл и всего произведения, «и смысл каждой из составляющих его ролей». (К. С. Станиславский, «Работа актера над собой»).
Образ зерна для меня – это не нечто застывшее, хранящее в себе будущий росток, это сила, необъяснимая, заложенная внутри и рвущая любую, даже немыслимую, преграду. Сумел же Акакий Акакиевич преодолеть свою застенчивость и всего себя, чтобы получить свою мечту. Но «Шинель» - это так, к слову. Может быть, когда-нибудь… А Островский и его Бальзаминов в жизни нашего театра имели огромное значение в изменении взглядов на главного героя. Трижды мы брались за эту пьесу, два раза наш Бальзаминов был все тем же глупым Мишей, неудачником, которого ведут обстоятельства, а в третий раз он стал настоящим героем, уверенным, идущим к цели, порой, как Гамлет, находящимся на распутье. Время действия объединило двадцатые годы XX века и наши дни.. И, хотя это страшно звучит, - готовность продаться ради денег, - но наш герой убедителен, он такой, как большинство молодых людей.

Спектакль "Женитьба товарища Бальзаминова"
Он при этом обаятелен, легок, он весело общается со зрителями, и только в конце приходит понимание, куда может завести легкомыслие, потому что конец нашей истории о Бальзаминове трагичен. Он осознает, что выбор, им сделанный, его изначальная цель направлена к гибели. Потому что продано тело, а с ним и душа заколочена в рамку, как в гроб. Современный Гамлет – Миша Бальзаминов – губит самого себя. Изменение взглядов на героя повлекло и изменение формы всего спектакля, где нет уже привычного для классической постановки стола, ширмы, «правильных» костюмов. Родился новый образ, в котором героя дополняет и направляет хор Матрен в кокошниках на фоне висящих простыней и доски для забора и той самой «рамки».
Когда за основу берется пьеса, материал, написанный специально для театра, определить героя не сложно, его задает драматург. Но как выбрать главного героя, если перед тобой роман с множеством сюжетных линий и действующих лиц? Здесь на карте путешествий должна быть остановка, начинается «алгебра» режиссера – выбор героев, которые ведут основную мысль уже «твоего» романа. И если, в соответствии с замыслом, и, конечно, с актерскими возможностями (Наташа Ростова и Пьер Безухов в момент «озарения» были в нашем театре), выбор сделан, - пора расставлять героев по их месту в соотношении сил. И, как в уравнении, где в середине стоит знак равенства, нужно выверять эти силы, наделяя противоборствующие стороны равными возможностями, ведь иначе возникнет перевес той или другой стороны, и интерес сразу пропадет. Так в нашей истории по Пушкинским сказкам, возник волшебник Черномор, тот, который из «Руслана и Людмилы», и на войну с ним отправились все мужчины королевства. Против Героя «Школы для дураков» выступает порой его же собственный «Другой Я», и в этом спектакле конфликт развивается очень сложно, без видимых врагов, но всегда остается желанный всеми противоборствующими силами предмет, «яблоко раздора». В «Школе» мы определили этот желанный предмет как мир фантазии, реальность которого отстаивает герой, и на который всегда покушается рациональный мир и даже двойник героя.
История не может развиваться без конфликта, а конфликт без общей проблемы. Это может быть как внешним обстоятельством – война, так и внутренней невозможностью жить прежней жизнью. Герои Пушкина уходят на войну с Черномором, а в городе остается Надежды маленький оркестрик. В Поэмах Цветаевой и Маяковского разрыв между влюбленными хоть и был авторами предрешен, а все же внезапен, как удар. У «Я» Саши Соколова среди героев его придуманного мира обнаруживаются реальные персонажи, готовые разрушить мир его фантазии. Герои решают преодолеть обстоятельства, и чем они сложнее, тем ярче проявляются характеры. Так на карте путешествий появляются новые пункты остановок - события.
Кроме того, что невозможно уместить сюжет, героев, места действия романа в рамках любительского, да и любого вообще, спектакля, есть еще проблема множества сюжетных ходов и множества событий. Текст хочет быть проявленным (помните, это Ваш друг принес свою книгу Вам в подарок), но переносить его целиком на сцену невозможно, - это другой вид искусства. Порой одна мизансцена может быть адекватна тексту нескольких страниц. А еще есть такая составляющая актерской игры, которую Станиславский назвал «лучеиспусканием», такого контакта с партнером, когда даже взгляд может стать осязаем, как ощупывание (Станиславский «Работа актера над собой»); но все это задачи уже совместной работы актера и режиссера.
И если события намечены, стоит переходить к работе вместе с актерами, каждый раз находя новые вопросы в проявлении актерских оценок на найденные события, в пластике, в движении, в речи. В работе над «Войной и миром» мы занимались «деловым» весом тела, когда во время значимого события тело сохраняет «достоинство», но до этого надо изучить привычное изменение отношения актера к своему воображаемому весу в сторону его «полегчания» или «потяжеления» (Ершов П.М.). В исследовании нужной пластики помогали занятия танцем и изучение вальса, этикета, и даже строевая песня.
История не может развиваться без конфликта, а конфликт без общей проблемы. Это может быть как внешним обстоятельством – война, так и внутренней невозможностью жить прежней жизнью. Герои Пушкина уходят на войну с Черномором, а в городе остается Надежды маленький оркестрик. В Поэмах Цветаевой и Маяковского разрыв между влюбленными хоть и был авторами предрешен, а все же внезапен, как удар. У «Я» Саши Соколова среди героев его придуманного мира обнаруживаются реальные персонажи, готовые разрушить мир его фантазии. Герои решают преодолеть обстоятельства, и чем они сложнее, тем ярче проявляются характеры. Так на карте путешествий появляются новые пункты остановок - события.
Кроме того, что невозможно уместить сюжет, героев, места действия романа в рамках любительского, да и любого вообще, спектакля, есть еще проблема множества сюжетных ходов и множества событий. Текст хочет быть проявленным (помните, это Ваш друг принес свою книгу Вам в подарок), но переносить его целиком на сцену невозможно, - это другой вид искусства. Порой одна мизансцена может быть адекватна тексту нескольких страниц. А еще есть такая составляющая актерской игры, которую Станиславский назвал «лучеиспусканием», такого контакта с партнером, когда даже взгляд может стать осязаем, как ощупывание (Станиславский «Работа актера над собой»); но все это задачи уже совместной работы актера и режиссера.
И если события намечены, стоит переходить к работе вместе с актерами, каждый раз находя новые вопросы в проявлении актерских оценок на найденные события, в пластике, в движении, в речи. В работе над «Войной и миром» мы занимались «деловым» весом тела, когда во время значимого события тело сохраняет «достоинство», но до этого надо изучить привычное изменение отношения актера к своему воображаемому весу в сторону его «полегчания» или «потяжеления» (Ершов П.М.). В исследовании нужной пластики помогали занятия танцем и изучение вальса, этикета, и даже строевая песня.
В «Школе» Саши Соколова все актеры играли мысли и образы главного героя, поэтому в рисунках и линиях мизансцен мы искали то коридор коммуналки, то падающий снег и рождающихся из него бабочек, то дрожание ветки на Станции. Решение сцены «Зимние бабочки» было предложено сделать в группах, и то, что придумала одна из них, полностью вошло в спектакль. Падает снег – кисти рук повторяют это действие на языке глухонемых, актеры опускаются на пол, а Герой движением ноги запускает из сугроба «бабочку» - кисти партнера, и охотится за ней.

Спектакль "Школа для дураков"
В идеале любое занятие ведется по законам диалога поиска решений. Как показать зрителям, что персонаж, которого мы представляем, не выдуманный, он живет здесь и сейчас? Как прожить актеру чужую жизнь? «Для этого нужны все те мелочи и подробности, которые говорят, что это лицо действительно жило на свете» (Н.В. Гоголь). И здесь на помощь придет фантазия, наблюдения за людьми, собственные воспоминания и, наконец, логика физических действий, проявленная в этюдах. Вопросы задаются на примере конкретных задач и требуют выхода актера на сцену. «Разыграть этюд» - значит выполнить последовательно ряд действий, возникающих при выполнении конкретного задания. Если ты обижена на весь свет, как несправедливо обвиненная Соня в «Войне и мире», и хочешь убегать от всех, спрятаться, а твоя подруга не дает тебе уходить от разговора? Для этого надо знать и предлагаемые обстоятельства, и расположение комнат в доме, и отношение своего героя к каждому персонажу и, Главное желание своего героя, его сверхзадачу. Подсказкой к первому диалогу «Я» со своим двойником Саши Соколова послужило ощущение детективной линии происходящего, и они нащупывали вдвоем, перебирая приходящие воспоминания, что же было вначале, от какого события произошли все их несчастья. А событием была, оказывается, смерть учителя Павла Петровича, а до этого тяжелые отношения между родителями и ощущение отвергнутости («Школа для дураков»). И даже в поэтических текстах, в ритмах возникают загадки. Сила или слабость в Цветаевской героине в «Поэме конца»: «Значит, не надо, значит не надо, плакать не надо…»? И как снять возникающий в чтении юношей пафос строчек: «Мария! Имя твое я боюсь забыть…»? И мы находим в этих заклинаниях поэтов простую задачу – утверждение, а, значит, появляется и еще один необходимый собеседник – зритель. И это для него, а может быть, для какого-то идеального зрителя, звучит посыл утверждения. В простой форме эта задача слышится как вкладывание учителем в память ученика решения элементарного «дважды два» (Ершова А. П. «Словесные воздействия в работе учителя»).
Но как много препятствий на пути этого совместного диалога! Часто работа над сложными темами перерастает в область психологических или литературных исследований, и желание каждой стороны быть единственно правой приводят к непродуктивным спорам. Растерянность может возникнуть и от неумения поставить вопрос и вывести дискуссию из абстрактных в конкретные примеры поведения конкретного персонажа. К тому же, желание пробудить интерес исполнителей может вызвать и излишнюю фантазию, уводящую в сторону и от смысла, и от стиля автора. Мысль невозможно объяснить вербально, она всегда глубже. Поэтому, соблюдая детективность исследования, хочется разбудить воображение, чувство, давая самые необычные предлагаемые обстоятельства. Я помню названия этюдов «Наполеон и русская баба», «французский язык на конном дворе», но, кроме названий, ничего не в памяти от таких задумок не осталось. Излишняя фантазия может ослабить поисковое начало, став препятствием на пути диалога между двумя равноправными сторонами – исполнителем и организатором процесса. Образ, понятный одному, может быть истолкован по-своему, особенно теми, кто не знаком с произведением. Мы много занимались этикетом, балетным станком, произношением отдельных фраз на французском языке.
Может быть, все это было не так важно, ведь сегодняшнее изучение норм и канонов слишком иронично. Современное восприятие легко готово разрушить эти каноны и подменить их теми стереотипами, которые навязаны массовой культурой. Через иронию приходилось продираться, разговаривая про переживания каждого в похожих ситуациях.
И опять же лучше в действии: понял, значит сделал! Надо оживить задачу, сделать ее личностно значимой для исполнителя. Пример: представь, что в этом тексте ты как будто летишь на качелях, а потом вдруг оказываешься в клетке! Так можно решить поэтический монолог Героини «Поэмы конца»: «В наших бродячих царствах рыбачих пляшут – не плачут…» Марина в спектакле «Повесть о Сонечке» по автобиографической повести той же Цветаевой должна доказать право на существование любви-дружбы, но, наблюдая за событиями прошлого, убеждается в неизбежности расставания. И в диалогах юная Марина и Сонечка искали те моменты, когда, не слыша собеседника, они восхищаются только своим представлением о нем.
Но как много препятствий на пути этого совместного диалога! Часто работа над сложными темами перерастает в область психологических или литературных исследований, и желание каждой стороны быть единственно правой приводят к непродуктивным спорам. Растерянность может возникнуть и от неумения поставить вопрос и вывести дискуссию из абстрактных в конкретные примеры поведения конкретного персонажа. К тому же, желание пробудить интерес исполнителей может вызвать и излишнюю фантазию, уводящую в сторону и от смысла, и от стиля автора. Мысль невозможно объяснить вербально, она всегда глубже. Поэтому, соблюдая детективность исследования, хочется разбудить воображение, чувство, давая самые необычные предлагаемые обстоятельства. Я помню названия этюдов «Наполеон и русская баба», «французский язык на конном дворе», но, кроме названий, ничего не в памяти от таких задумок не осталось. Излишняя фантазия может ослабить поисковое начало, став препятствием на пути диалога между двумя равноправными сторонами – исполнителем и организатором процесса. Образ, понятный одному, может быть истолкован по-своему, особенно теми, кто не знаком с произведением. Мы много занимались этикетом, балетным станком, произношением отдельных фраз на французском языке.
Может быть, все это было не так важно, ведь сегодняшнее изучение норм и канонов слишком иронично. Современное восприятие легко готово разрушить эти каноны и подменить их теми стереотипами, которые навязаны массовой культурой. Через иронию приходилось продираться, разговаривая про переживания каждого в похожих ситуациях.
И опять же лучше в действии: понял, значит сделал! Надо оживить задачу, сделать ее личностно значимой для исполнителя. Пример: представь, что в этом тексте ты как будто летишь на качелях, а потом вдруг оказываешься в клетке! Так можно решить поэтический монолог Героини «Поэмы конца»: «В наших бродячих царствах рыбачих пляшут – не плачут…» Марина в спектакле «Повесть о Сонечке» по автобиографической повести той же Цветаевой должна доказать право на существование любви-дружбы, но, наблюдая за событиями прошлого, убеждается в неизбежности расставания. И в диалогах юная Марина и Сонечка искали те моменты, когда, не слыша собеседника, они восхищаются только своим представлением о нем.
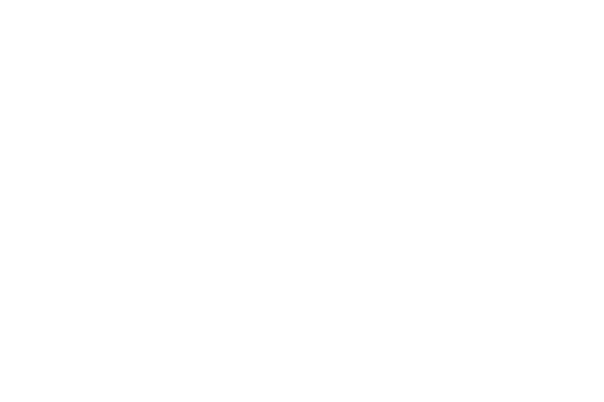
Спектакль " Суд, которого не было"
В спектакле «Суд, которого не было» по произведениям Хармса, адвокатом героя на суде перед зрителями предстала Чушь. В общении с двухметровой куклой, многорукой и непостоянной, все исполнители-дети, подстраиваясь, находили интересные пластические решения, уходила бытовая и суетливая жестикуляция. Логика абсурда была оправдана, ведь Хармс относился к своей Чуши как к даме сердца, отвергая при этом назойливых поклонниц, преследовавших его, подражающих его поведению и невольно становящихся на этом суде обвинителями.
Сложно после собственного текста в этюдах начать вдруг говорить словами Толстого или стихами Пушкина. Когда слово рождается от реплик партнера или его интонации, взгляда, это слово становится прожитым, твоим, поэтому работа с текстом может начинаться с анализа авторского стиля. Но… мне кажется вполне допустимым дописать самому тех героев, которых нет в тексте и, казалось бы, не может быть. Я знаю, что авторы очень ревностно относятся к своему тексту. Гоголь был в ужасе, узнав, что его «Мертвые души» «таскают целыми страницами на театр» (Гоголь Н. В. Собр. соч. в 14 т. Т. 12. С. 120). Но, если Ваше отношение к Автору как к другу, дарящему, щедрому, и Вы хорошо знаете своего друга, всю его жизнь, его проблемы, а если не знаете, - обязаны узнать, и с уважением, с дружеским участием принять и владеть его Даром.
Мне нужно было вставить в спектакль «Война и мир» сцену «Сон Наташи», в котором одна Наташа исчезала и уступала место другой, взрослой. Во сне и появляется вышеупомянутый Берия и его черная машина, и поручик Ржевский с его вечными анекдотами про Наташу Ростову. На эмоциональном уровне восприятия мне был необходим парадокс смещения времен и героев. Через эту сцену, может быть, и шло примирение зрителя с моим правом на выбор этого произведения.
Отношение к Зрителю как к действующему лицу тоже необходимо задать с начала работы над спектаклем, – зрители-судьи, зрители-свидетели или другие действующие лица? Среди высказываний зрителей-жюри с разных фестивалей (о, плохих отзывов было много, главный из них – как это вы посмели!) есть такие, которые как будто считали мою ту самую первую мысль, ту болевую точку о Наташе Ростовой и ее семье, и о детях, играющих в войну.
Приятно, что иногда зрители после спектакля перечитывают произведение, взятое за основу спектакля. Особенно радует, когда приходят родители и благодарят за то, что их ребенок, никогда не бравший в руки книгу, сам стал читать. Значит, наш интерес разбудил и продлил фантазию зрителей.
Мне кажется, что сегодня самое трудное в образование – пробудить интерес к чтению. Сначала ТV, а теперь Интернет сделали чтение единичным явлением. Взять в руки книгу – это как сделать шаг на улицу из душной, но такой уютной и привычной квартиры. И не любую книгу, потому что спрос на легкое чтиво даже в школьных библиотеках больше, чем на произведения литературы. Даже у меня в театре есть дети, которые признаются, что после десятка страниц чтения забывают о прочитанном вначале. От неумения «увидеть» в воображении картину происходящего с мельчайшими деталями и нюансами, от неумения предвидеть развитие сюжета и удивляться его непредсказуемости, у подростка пропадает интерес к дальнейшему чтению.
Хочу поддержать учителей литературы, которые берутся за произведения классики и пожелать им найти те загадки, интерес разгадать которые возникнет у их учеников.
Поддерживаю и тех режиссеров, которые берутся за всем известные или, наоборот, забытые, «чистые источники», если это не ради даты или легкого сбора полного зала, а если этот источник дает силы и надежды, если сегодня и вчера имеют какой-нибудь смысл.
Мне нужно было вставить в спектакль «Война и мир» сцену «Сон Наташи», в котором одна Наташа исчезала и уступала место другой, взрослой. Во сне и появляется вышеупомянутый Берия и его черная машина, и поручик Ржевский с его вечными анекдотами про Наташу Ростову. На эмоциональном уровне восприятия мне был необходим парадокс смещения времен и героев. Через эту сцену, может быть, и шло примирение зрителя с моим правом на выбор этого произведения.
Отношение к Зрителю как к действующему лицу тоже необходимо задать с начала работы над спектаклем, – зрители-судьи, зрители-свидетели или другие действующие лица? Среди высказываний зрителей-жюри с разных фестивалей (о, плохих отзывов было много, главный из них – как это вы посмели!) есть такие, которые как будто считали мою ту самую первую мысль, ту болевую точку о Наташе Ростовой и ее семье, и о детях, играющих в войну.
Приятно, что иногда зрители после спектакля перечитывают произведение, взятое за основу спектакля. Особенно радует, когда приходят родители и благодарят за то, что их ребенок, никогда не бравший в руки книгу, сам стал читать. Значит, наш интерес разбудил и продлил фантазию зрителей.
Мне кажется, что сегодня самое трудное в образование – пробудить интерес к чтению. Сначала ТV, а теперь Интернет сделали чтение единичным явлением. Взять в руки книгу – это как сделать шаг на улицу из душной, но такой уютной и привычной квартиры. И не любую книгу, потому что спрос на легкое чтиво даже в школьных библиотеках больше, чем на произведения литературы. Даже у меня в театре есть дети, которые признаются, что после десятка страниц чтения забывают о прочитанном вначале. От неумения «увидеть» в воображении картину происходящего с мельчайшими деталями и нюансами, от неумения предвидеть развитие сюжета и удивляться его непредсказуемости, у подростка пропадает интерес к дальнейшему чтению.
Хочу поддержать учителей литературы, которые берутся за произведения классики и пожелать им найти те загадки, интерес разгадать которые возникнет у их учеников.
Поддерживаю и тех режиссеров, которые берутся за всем известные или, наоборот, забытые, «чистые источники», если это не ради даты или легкого сбора полного зала, а если этот источник дает силы и надежды, если сегодня и вчера имеют какой-нибудь смысл.
Если Вам понравился материал, Вы можете поделиться им, нажав на кнопку внизу
