Это не про фонарь, а про нашу юность
Беседу с Ильёй Быковым вела Татьяна Зимакова
Мы в соцсетях
Илья Быков в юности был участником проекта Бориса Павловича «Я (не) уеду из Кирова». Впоследствии он связал свою жизнь с профессиональным театром. Сегодня он вспоминает о социальном театральном проекте, описывая происходившее с точки зрения школьника, и размышляет о том, чем социальный театр может быть важен для подростка и для взрослого человека, независимо от его профессии. Размышляет о том, почему социальный театр важен для жизни города и для самого театра.
- Среди материалов нашего блога «И т.п. и т.д.», посвященного театральной педагогике, есть интервью с Борисом Павловичем, в котором он коротко рассказывает о проекте «Я (не) уеду из Кирова». Можете ли Вы нам рассказать об этом проекте ещё раз, но уже с точки зрения участника?
- Наверное, было бы правильным более подробно расспросить о проекте его автора – Бориса Павловича. На момент участия в проекте « Я (не) уеду из Кирова» я был учеником восьмого класса, мне было 14 лет. И я, наверное, могу об этом рассказать только с точки зрения четырнадцатилетнего участника. Это был 2011 год.
Борис Дмитриевич приехал в Киров и стал художественным руководителем ТЮЗа в 2006 году, и помимо спектаклей, привычных для кировских зрителей, запустил несколько социальных программ для горожан.
Я очень благодарен вам за то, что вы продолжаете интересоваться этим проектом. Это очень важно. Чем больше людей узнают про этот проект, чем больше новых подробностей их заинтересуют, тем больше уверенности в том, что работа в этом направлении будет продолжаться, что будут рождаться новые проекты, интересные и значимые.
Вообще, я за думающий театр. Это осознанный театр. Театр, в котором не только чувствуют и переживают, но и думают. Театр, в котором начинаешь понимать, что в жизни невозможно все время плыть по течению. Иногда нужно повернуть вправо, иногда влево. О том, что каждый человек несёт ответственность за свою жизнь и может стать капитаном своего корабля, может научиться не забывать о том, что он – капитан, даже когда он плывет по течению.
Я очень благодарен за то, что этот проект случился в моей жизни и за то, что вместе с этим проектом в моей жизни появились люди, общение с которыми для меня важно и до сих пор необходимо. Эти люди стали для меня надёжным тылом и поддержкой и в периоды каких-то моих собственных новых начинаний и поисков, и в ситуациях, когда что-то пошло не так, что-то не получается, когда я чем-то расстроен. Особенно, когда что-то идёт не так, начинаешь думать: хорошо, что в моей жизни был этот проект, моя жизнь, благодаря этому, уже проходит не зря. И это даёт силы действовать дальше.
- «Я (не) уеду из Кирова» был не первый и не единственный социальный проект Бориса Павловича в Кирове?
- Да, к этому времени был уже проект «Так-то да», в котором прозвучали мысли жителей города о том, что их волнует. И на основании этих разговоров получился спектакль, который заинтересовал многих зрителей, в том числе и меня. «Так-то да» - оборот речи, который часто используют вятские жители, момент говора, региональная особенность. Мне, кажется, это было в 2009 году. Соорганизатором и, наверное, можно сказать, что соавтором Бориса Павловича в этих двух проектах была Елена Георгиевна Ковальская, экс-директор ЦИМа. В рамках программы «Маска плюс» фестиваля «Золотая маска» мы приезжали на гастроли в Москву и играли спектакль «Я (не) уеду из Кирова» на сцене Центра Мейерхольда, так что мне кажется очень символичным, что наш разговор об этом происходит здесь.
Но вернёмся в 2011 год. Идея заключалась в том, чтобы перед тем, как начнутся экзамены, поговорить с выпускниками школ. Все они стоят перед выбором: оставаться ли им в городе или уезжать, чтобы продолжить учебу или просто жизнь в другом месте.
- Наверное, было бы правильным более подробно расспросить о проекте его автора – Бориса Павловича. На момент участия в проекте « Я (не) уеду из Кирова» я был учеником восьмого класса, мне было 14 лет. И я, наверное, могу об этом рассказать только с точки зрения четырнадцатилетнего участника. Это был 2011 год.
Борис Дмитриевич приехал в Киров и стал художественным руководителем ТЮЗа в 2006 году, и помимо спектаклей, привычных для кировских зрителей, запустил несколько социальных программ для горожан.
Я очень благодарен вам за то, что вы продолжаете интересоваться этим проектом. Это очень важно. Чем больше людей узнают про этот проект, чем больше новых подробностей их заинтересуют, тем больше уверенности в том, что работа в этом направлении будет продолжаться, что будут рождаться новые проекты, интересные и значимые.
Вообще, я за думающий театр. Это осознанный театр. Театр, в котором не только чувствуют и переживают, но и думают. Театр, в котором начинаешь понимать, что в жизни невозможно все время плыть по течению. Иногда нужно повернуть вправо, иногда влево. О том, что каждый человек несёт ответственность за свою жизнь и может стать капитаном своего корабля, может научиться не забывать о том, что он – капитан, даже когда он плывет по течению.
Я очень благодарен за то, что этот проект случился в моей жизни и за то, что вместе с этим проектом в моей жизни появились люди, общение с которыми для меня важно и до сих пор необходимо. Эти люди стали для меня надёжным тылом и поддержкой и в периоды каких-то моих собственных новых начинаний и поисков, и в ситуациях, когда что-то пошло не так, что-то не получается, когда я чем-то расстроен. Особенно, когда что-то идёт не так, начинаешь думать: хорошо, что в моей жизни был этот проект, моя жизнь, благодаря этому, уже проходит не зря. И это даёт силы действовать дальше.
- «Я (не) уеду из Кирова» был не первый и не единственный социальный проект Бориса Павловича в Кирове?
- Да, к этому времени был уже проект «Так-то да», в котором прозвучали мысли жителей города о том, что их волнует. И на основании этих разговоров получился спектакль, который заинтересовал многих зрителей, в том числе и меня. «Так-то да» - оборот речи, который часто используют вятские жители, момент говора, региональная особенность. Мне, кажется, это было в 2009 году. Соорганизатором и, наверное, можно сказать, что соавтором Бориса Павловича в этих двух проектах была Елена Георгиевна Ковальская, экс-директор ЦИМа. В рамках программы «Маска плюс» фестиваля «Золотая маска» мы приезжали на гастроли в Москву и играли спектакль «Я (не) уеду из Кирова» на сцене Центра Мейерхольда, так что мне кажется очень символичным, что наш разговор об этом происходит здесь.
Но вернёмся в 2011 год. Идея заключалась в том, чтобы перед тем, как начнутся экзамены, поговорить с выпускниками школ. Все они стоят перед выбором: оставаться ли им в городе или уезжать, чтобы продолжить учебу или просто жизнь в другом месте.
- Кто мог принять участие в этом проекте? Как отбирались участники?
- Ученики выпускных классов на уроках русского языка и литературы писали сочинения на эту тему. Все эти сочинения стали материалом для социологических исследований на муниципальном и региональном уровнях. В СМИ, по телевидению, в театре были сообщения о том, что театр ищет школьников для участия в проекте. Я не знаю, как именно Борису Дмитриевичу удалось развернуть эту деятельность в таких масштабах.
- Ученики выпускных классов на уроках русского языка и литературы писали сочинения на эту тему. Все эти сочинения стали материалом для социологических исследований на муниципальном и региональном уровнях. В СМИ, по телевидению, в театре были сообщения о том, что театр ищет школьников для участия в проекте. Я не знаю, как именно Борису Дмитриевичу удалось развернуть эту деятельность в таких масштабах.

Участники
- Все старшеклассники писали сочинения в обязательном порядке или только те, кто хотел?
- Я думаю, что только, те, кто хотел. Далее все эти сочинения были собраны в театре. Борис Дмитриевич, и не только он, внимательно и неоднократно их читали: был конкурс сочинений. Из авторов была отобрана группа школьников для участия в театральном проекте. Организовали очную встречу в театре, на которую дополнительно приглашались и те, кто не писал сочинений, потому что была необходимость в дополнительных участниках. Я, например, не писал, потому что учился в восьмом классе, и мне никто этого не предлагал.
- А как Вы тогда оказались в числе участников проекта?
- Я очень хотел принять участие в этом проекте, потому что в это время уже занимался театром. Ещё за 3-4 месяца до начала активного кастинга, я пытался взять штурмом театр, звонил, приходил, говорил, что хочу работать, а Борис Дмитриевич мне отвечал: «Поезжайте учиться, заканчивайте, приезжайте, и тогда уже приходите работать в театр». Но меня этот ответ не очень удовлетворил. Я до этого уже несколько лет занимался в разных театральных студиях и уже немного начал их перерастать. Мне хотелось оказаться внутри профессионального театра, поближе с ним познакомиться. И участие в этом проекте могло дать мне такую возможность, стать этапом моего развития. Но что же мне делать? Мне никто не предлагал писать сочинение.
Однажды мама обнаружила объявление в газете, где говорилось, что даже те, кто не участвовали в конкурсе сочинений, но хотят принять участие, могут прийти на эту встречу в театр. Я отменил в этот день все свои другие дела и на эту встречу пришел. И вот тогда мы уже познакомились с Борисом Дмитриевичем. Видимо, мое желание быть с театром и с Борисом Дмитриевичем, на тот момент оказалось сильнее того обстоятельства, что я ещё только восьмиклассник. И так я попал в проект.
- Кто ещё из профессионалов и взрослых, кроме Бориса Павловича и Елены Ковальской работали со школьниками в этом проекте?
- Всё это происходило при поддержке Министерств Культуры и Образования Кировской области. Непосредственно с нами работали хореограф Аглая Соловьёва и художник Ольга Павлович. Важно, что это был репертуарный спектакль «Театра на Спасской», который игрался дважды в месяц. И над спектаклем работали театральные профессионалы по свету, звуку, а также костюмеры, реквизиторы и все другие театральные цеха. Нас окружали профессионалы. Все, кроме нас, ребят, были профессионалами. Но за полтора-два месяца репетиций, мы, можно сказать, в какой-то мере, тоже стали профессионалами, готовыми выйти к зрителям, способными излагать свои мысли в процессе общения с залом.
- Как во время подготовки проекта и участия в спектакле выстраивались и складывались отношения участников и творческой группы с родителями?
- В целом, благополучно. Наверное, любой родитель мечтает о том, чтобы его ребенок попал в хорошую компанию, а тем более, в театр. Борис Павлович и директор театра встречались с родителями, рассказывали им, что и как примерно будет с нами происходить в проекте. Потом мы проходили в театре инструктаж по технике безопасности. Родители тоже расписывались, что прошли инструктаж. Мы на какой-то период стали частью театра, нам выдали театральные пропуска. Потом началась гастрольная история, паспорта, билеты. Родители давали расписки о своём согласии и помогали организационно. В поездках по области они не участвовали, потому что это занимало не более одного дня. А в более дальние поездки несколько родителей сопровождали нас в обязательном порядке. И, конечно же, во время спектаклей в театре, родители были в зрительном зале и старались спектаклей не пропускать, потому что после обязательно было ещё и обсуждение. И для некоторых родителей, то, о чем и как рассуждали их дети на сцене, стало откровением и новым этапом в их отношениях друг с другом.
- То есть на стадии репетиционного процесса, они не включались в проект активно?
- Они, конечно, всегда интересовались, что происходит на репетициях. Но это было нечто совсем другое. Они просто расспрашивали, как прошел день, мы рассказывали, чем занимались, что нового узнали, какие мысли нам приходили в голову. И они говорили: «вот и хорошо, молодцы». А когда во время спектакля родители видят и слышат, то, что их дети говорят со сцены, это уже не диалог детей и родителей, это диалог с городом, диалог с обществом. И родители проникаются уважением к своим детям, начинают смотреть на них немного по-другому.
- Как происходила подготовка к спектаклю?
- Это было летом. Нас отобрали 18-20 человек, и на пять дней отвезли в загородный лагерь. Там происходили разнообразные тренинги, игры - из нас делали команду.
- А какого рода были тренинги?
- Примерно такие же, какие потом на первом курсе театрального института. Основной задачей было, как я сейчас понимаю, нас объединить, создать команду. То есть, сценической речью, например, с нами не занимались. В течение этих пяти дней в лагере с нами произошло много всего интересного, и над этим работала целая команда молодых людей. Я даже не знаю, откуда они. Они приехали, поработали с нами и уехали. Может быть, это были студенты. Мы много общались друг с другом. И для того, чтобы это происходило более активно, были введены определённые ограничения. У нас, например, забрали наши мобильные телефоны, и выдавали их только вечером на 10 минут, чтобы позвонить родителям.
С нами много разговаривали на разные темы, но, в основном, на тему переезда. И нам, ребятам, тогда казалось очень лёгким делом уехать из Кирова: взял чемодан, собрал и поехал. И вдруг на второй или третий день жизни в лагере, когда мы привыкли к месту, обустроились там более менее основательно, настроились на то, чтобы провести там целую неделю, нам сказали: «Ну, все, быстро собирайте чемоданы, мы сейчас переезжаем». А как, куда, зачем, почему, не объяснили. Сразу подъехали автобусы, почти как при пожарной тревоге, и нас повезли назад, в город. Мы проехали через весь город, а потом оказались в другом загородном лагере, на другом краю области. Вечером позвонили родителям, чтобы рассказать, что с нами произошло, очень удивлялись этому происшествию и тому, в какой странный лагерь мы попали. А оказалось, что наш переезд, был заранее спланирован. Это был важный опыт, через который нам полагалось пройти.
В лагере мы за 5 дней очень подружились, полюбили друг друга. Это была очень красивая подростково-юношеская история, которая останется с нами навсегда. Потом, в конце лета Борис Дмитриевич сообщил, с кем из нас ему хотелось бы работать над спектаклем. Это были 12 человек: 10 одиннадцатиклассников, я и ещё одна девочка помладше. С конца августа начались ежедневные репетиции в театре, а 26 октября, – это стало для меня очень важной датой, поэтому я ее запомнил, - состоялась премьера спектакля. О школе мне на эти два месяца пришлось забыть, потому что я, в отличие от других участников спектакля, учился во вторую смену, а в се репетиции происходили во второй половине дня. Театр написал большое письмо в школу, чтобы меня отпустили.
Каждая репетиция начиналась с небольшого разогревающего тренинга, уже более профессионально нацеленного на включение в процесс, на раскрепощение, на внимание, на взаимодействие, на партнёрство. А потом мы разговаривали, сочиняли спектакль.
Сначала с нами много разговаривали в формате интервью. Потом мы все вместе обсуждали очень разные темы, которые нас волновали, например, что такое для нас Родина, что такое субкультура и как выстраиваются наши отношения с ней. Один мальчик сказал, что ему нравится жить в нашем городе, потому что в нем хорошо развита субкультура, и Борис Павлович рассказал нам много интересного о субкультурах в его понимании. В какой-то момент в разговорах возникла тема Великой Отечественной Войны, а потом в спектакле две девочки читали стихотворение Муссы Джалиля о войне.
- Что такое Родина, для вас, ребята?
И это был не вопрос, а космос. А, правда, что это – это место, город, страна или что-то ещё? Мы начали размышлять, и из наших размышлений рождался спектакль.
Все эти наши разговоры фиксировались на диктофон, а потом постепенно из наших разговоров вырос сценарий будущего спектакля.
- Вошло ли в спектакль то, что возникло на этапе написания сочинений и в разговорах в лагере?
- Вошло. У нас же уже сложился общий коллектив, появились общие шутки, воспоминания о тех ребятах, которые по разным объективным причинам не участвовали в спектакле. Например, на обсуждениях вдруг кто-нибудь говорил: «А помните, что Артем говорил по этому вопросу?»
- То есть те ребята, которые не принимали участия в спектакле, все равно оставались участниками проекта?
- Да. Не было такого как, например, при поступлении в институт: «Вы проходите на первый тур, а остальным – до свидания». Было все очень по- доброму. Борис Павлович всех поблагодарил, а потом очень тактично и лаконично объяснил, почему для спектакля нужно именно столько людей и именно эти. Остальные тоже имели возможность присутствовать на репетициях и, конечно же, были приглашены на премьеру спектакля. И мы все остались в контакте друг с другом. Мы до сих пор продолжаем общаться, созваниваться, переписываться, встречаться, я знаю, кто где, и как идут дела у каждого из нас. Мы играли наш спектакль не только в театре, вместе ездили на гастроли по области, по школам и Д/К, в Москве играли его в ЦИМе, в Петербурге на фестивале «Арлекин». И когда театральный сезон, был завершён, нам пришла в голову идея, что хорошо бы встретиться лет через пять, поделиться тем, что с каждым из нас произошло за это время, что изменилось, и сыграть спектакль ещё один раз. И я, как человек, понимающий, что иду в актерскую профессию, и привыкший помнить возникающие идеи и реализовывать их до конца, в 2016 году, учась на втором курсе ГИТИСа, вспомнил об этом, списался с Борисом Павловичем и, заручившись его поддержкой, пришел к директору Кировского ТЮЗа с нашей идеей. Так получилось, что я стал координатором проекта «Я (не) уеду из Кирова. Возвращение». Завлит театра Юлия Ионушайте очень помогла нам на этот раз со сценарием и пьесой. Обмен идеями и репетиции происходили у нас, в основном, в формате онлайн, потому что все мы оказались на тот момент в разных городах. И это были уже совсем другие ощущения и сложности.
«Я (не) уеду из Кирова. Возвращение»
- То есть все участники проекта уехали из города?
- Не совсем так. Кто-то, из тех, кто собирался уехать, остался, кто- то из тех, кто собирался остаться, уехал. Кто-то уехал, но вернулся или хочет вернуться. Кто-то из оставшихся хочет уехать. В целом, очень много несовпадений с теми мыслями, которые у нас возникали раньше. Получился совсем другой спектакль, который мы сыграли всего один раз. В нем участвовало 8 человек – те, кто смог приехать. И этот вечер оказался очень важным и для нас, и для зрителей. Билеты на спектакль (зал на 500 мест) разошлись за 2-3 дня. В городе очень любят и помнят Бориса Павловича, и проект этот помнят, потому что он был очень резонансным. Тогда школьники Кирова впервые вышли на сцену профессионального театра и открыто говорили о том, что им нравится и не нравится в городе. Они говорили это не только простым зрителям, но и тем, от кого зависит, то, что в городе грязь, не горят фонари, и поэтому из него хочется уехать. Во всяком случае, я так это все тогда воспринимал. Это воспринималось очень остро. О нашем спектакле много говорили в теленовостях и писали в газетах. Тогда интернет ещё был не так сильно развит. И, конечно же, большинство тех, кто к нам пришел на этот раз, хотели ещё раз встретиться с Борисом Павловичем. Он собирался приехать, но у него что- то не получилось с билетами. И на этот раз город встретился только с нами и услышал от нас много нового. Но эта встреча и этот разговор оказались для всех очень интересным. Произошла встреча не только с театром, а друг с другом, встреча с нашим родным городом: местом, где мы родились, выросли и прожили 20 лет, местом, где продолжают жить наши друзья и родственники, куда всегда приятно возвращаться, несмотря на то, что здесь происходит и как складываются наши отношения. Родной город для нас теперь не абстрактное понятие, а наш город, вот этот вполне конкретный Киров, потому что теперь нам уже есть, с чем его сравнивать, потому что появилось, уже взрослое понимание того, для чего нам было нужно участие в этом проекте. И мы теперь можем по-другому рассуждать о том, почему может быть необходимо уехать или остаться, и возвращаться, понимать, чем интересен этот проект. А он очень интересен. С Борисом Дмитриевичем по-другому просто быть не может.
Прошло уже более 11 лет, а получается, что проект для нас, так или иначе, продолжается как исследовательский. Продолжают возникать важные вопросы, поиск ответов на них для себя. Сейчас мы, конечно, встречаемся уже реже. А в первые годы встречались очень часто. И когда встречаемся, продолжаем играть в те, игры, в которые играли в лагере, которые, кроме нас, не знает никто. Они продолжают создавать для нас наше общее пространство.
- Расскажите, о какой-нибудь из этих игр.
- Ну, например «Сосиска – кетчуп - Кока-Кола». Это такая подвижная игра на взаимодействие. Все выстраиваются паровозиком, но так, чтобы расстояние между каждым из игроков было достаточно большим, чтобы можно было совершать какие-то движения. И дальше они начинают перемещаться. Когда делают шаг правой ногой, говорят «сосиска», когда делают шаг левой ногой, говорят «кетчуп», а когда приседают, говорят «кока-кола». Вам, например, эти слова ни о чем не говорят, а для нас это как бы пароль, ритуал, создающий общее поле, затрагивающий общие воспоминания и ассоциации. Для нас это такая штучка, которая поднимает настроение и уровень позитивных эмоций.
- Кто-то ещё, кроме Вас, из участников проекта, благодаря нему, связал свою профессиональную деятельность с театром?
- Да. Ещё одна девочка.
- Какие трудности возникали во время участия в проекте?
- У меня возникала трудность говорить: в самом начале, когда у меня брали интервью. Возникала трудность взаимодействия и работы в коллективе, где все ребята намного старше меня, а вокруг взрослые дяди и тети. Мне во время обсуждений было трудно начать говорить, точнее, взять слово. Например, говорили про субкультуру, и мне было, о чем рассказать, но мне было сложно начать, потому что я младше других. Первые несколько дней на репетициях я больше молчал и слушал, хотя в лагере я был активным, позитивным и общительным весельчаком. Все не понимали, почему я молчу: отчасти я стеснялся, отчасти для меня в тот момент было важнее слушать. Я надеялся, что в процессе мне постепенно удастся это преодолеть. Так и случилось. Потом я постепенно разговорился и начал больше себе позволять и высказываться.
- Эта боязнь высказываться больше случалась на репетициях или на спектаклях?
- На репетициях. На спектакле уже сложилась жёсткая структура и более-менее фиксированный текст.
- То есть на спектакле Вы все время повторяли примерно одно и то же?
- Да. Всё-таки мы были ещё детьми, и полной свободы высказывания во время спектакля нам не давали. Не то, чтобы мы все время повторяли текст «слово в слово», мы говорили своими словами, и этот текст был рожден нами, но он почти всегда был про одно и то же, и примерно одинаковым. Не могло такого быть, чтобы на спектакле я говорил со сцены то, о чем, я ещё ни разу не говорил. Такие моменты происходили только на репетициях.
- Но ведь в течение года могли меняться, настроение, ситуации и ваше к ним отношение, вас могло взволновать что-то другое более сильно, чем то, что волновало раньше. Например, негорящий фонарь, который Вас раздражал, мог вдруг загореться, потому что Вы были услышаны или по какой-то другой причине. Вы все равно продолжали бы говорить в спектакле, что фонарь не горит и Вас это раздражает?
- Ну, во-первых, поэтому спектакль и игрался всего только год, чтобы не приходилось многого в нем менять. Во-вторых, мы все-таки не буквально говорили, о каких-то конкретных вещах и фактах, а на опосредованных тонких гранях. В этом было больше «зачем» и «почему», чем «что», больше моментов понимания себя. И с текстом в процессе спектакля можно было себе уже позволить немного поиграть, как с хорошо освоенным материалом, а не только с личным высказыванием, которое тебе важно донести до зрителей. Если через полгода меня уже меньше волнуют негорящие фонари и лужи, то во время спектакля этот момент можно немного сгладить и усилить какой-то другой акцент. В-третьих, у нас перед каждым спектаклем всегда происходили полноценные репетиции, и если кто-то понимал, что ему остро хочется, необходимо что-то изменить, то этот вопрос решался на репетиции вместе с Борисом Дмитриевичем. И иногда в спектакле всё же что-то менялось, а иногда договаривались о том, что будем продолжать говорить о том же, что и раньше, но немного этот момент сгладим. Но это не могло случиться внезапно прямо на спектакле, все заранее обговаривалось и решалось на репетиции.
- Как выстраивались и складывались отношения с другими школьниками?
- По-разному. И тут я не могу говорить за всех 12 человек, а только за себя. Кто-то поздравлял меня с премьерой и говорил: «как здорово, что твоя мечта сбылась, и ты стал ближе к театру именно в этом очень важном для города социальном проекте». А кто-то говорил: «да ну, если рассматривать это как путь в театр, то все это как-то несерьёзно, документальный театр и вербатим – это не настоящий театр, не искусство, зачем тебе это надо?»
В школах это, в основном, вызывало поддержку, говорили, что мы молодцы, что для нас и для школы это очень важно и нужно, что это интересно.
Со мной произошла такая история. В спектакле у каждого из нас были эпизоды, где каждый рассказывал о том, что волнует больше всего его лично. И я рассказывал историю о своем бывшем друге, о друге детства, с которым мы в какой-то момент по разным причинам перестали общаться, и после этого у меня остался какой-то неприятный осадок. Я рассказывал об этом, не называя имён и конкретных обстоятельств, но я рассказывал конкретно. Об эмоциях, которые я переживал в связи с этим. О том, в чем я оказался не прав. О том, что я часто говорил своим родителям «посмотрите, как мы живём, и как живут они», потому что на тот момент в семье друга был более высокий уровень жизни и более гармонично складывались отношения. А потом ситуация изменилась, и у нас в семье, дела пошли лучше, чем у них. Я рассказывал об этом на каждом спектакле. И однажды, вернувшись домой, увидел в своем телефоне сообщение от него. В этот вечер он вместе со своим классом побывал на нашем спектакле. А я не знал о том, чтобы он был в зале. Если бы я знал, я все равно бы рассказал эту историю так, как есть. Но, может быть, немного по-другому, может быть, кое-что в ней сгладил бы. И для меня это, конечно, стало, большим потрясением. Ему на тот момент было лет 16, и он мне с такой интересной формулировкой написал: «А с какой это стати ты вдруг вообще про меня вспомнил? Я думал, что все это для нас осталось в прошлом». И я ему рассказал, что это не вдруг, что это было запланировано, что я на каждом спектакле о нем рассказываю и буду рассказывать, потому что это воспоминание о важной для меня части жизни, которая продолжает меня волновать.
И для него на спектакле тоже произошло что-то очень важное. Я даже не стал у него уточнять, знал ли он, что я играю в этом спектакле или пришел вместе с классом, ничего не подозревая об этом. И мы с ним снова начали общаться. И снова мы проводили вместе с ним много времени. Мы разобрались в том, что между нами произошло, выяснили, что между нами больше не стоит никаких претензий и обид, ударили по рукам, поняли, что наша дружба была для нас в свое время очень важной и нужной. Но что-то изменилось в жизни каждого из нас, начался новый этап и новые интересы, мы не стали такими же друзьями, как прежде, но остались добрыми приятелями. Этот парень, сейчас живёт в Москве, мы с ним переписываемся и дружим в соцсетях. И я знаю, что все у него хорошо.
Но в то время это стало для меня очень острым моментом, с которым я пришел к Борису Дмитриевичу и спрашивал, как мне с этим быть дальше: и во время спектакля, и в жизни. И он мне помог с этим разобраться, не только как режиссер артисту, но и как более опытный человек, менее опытному. Он стал для нас не только режиссером, но и педагогом. Он нас взял под крыло и опекал, опекал, опекал до окончания этого проекта, да и после. Когда мы сочиняли «Возвращение» он тоже очень активно с нами переписывался, взаимодействовал, что-то советовал, комментировал, подсказывал.
- Как формировался зрительный зал?
- Билеты всегда продавались в кассе свободно. Если кто-то заинтересовался спектаклем в индивидуальном порядке, для него всегда находились один-два билета. И билеты расходились быстро и хорошо. Иногда были целевые спектакли, на которые собирались две-три школы. На выездных спектаклях, преобладала чаще целевая аудитория. Но нецелевых спектаклей было, конечно, больше.
- Не совсем так. Кто-то, из тех, кто собирался уехать, остался, кто- то из тех, кто собирался остаться, уехал. Кто-то уехал, но вернулся или хочет вернуться. Кто-то из оставшихся хочет уехать. В целом, очень много несовпадений с теми мыслями, которые у нас возникали раньше. Получился совсем другой спектакль, который мы сыграли всего один раз. В нем участвовало 8 человек – те, кто смог приехать. И этот вечер оказался очень важным и для нас, и для зрителей. Билеты на спектакль (зал на 500 мест) разошлись за 2-3 дня. В городе очень любят и помнят Бориса Павловича, и проект этот помнят, потому что он был очень резонансным. Тогда школьники Кирова впервые вышли на сцену профессионального театра и открыто говорили о том, что им нравится и не нравится в городе. Они говорили это не только простым зрителям, но и тем, от кого зависит, то, что в городе грязь, не горят фонари, и поэтому из него хочется уехать. Во всяком случае, я так это все тогда воспринимал. Это воспринималось очень остро. О нашем спектакле много говорили в теленовостях и писали в газетах. Тогда интернет ещё был не так сильно развит. И, конечно же, большинство тех, кто к нам пришел на этот раз, хотели ещё раз встретиться с Борисом Павловичем. Он собирался приехать, но у него что- то не получилось с билетами. И на этот раз город встретился только с нами и услышал от нас много нового. Но эта встреча и этот разговор оказались для всех очень интересным. Произошла встреча не только с театром, а друг с другом, встреча с нашим родным городом: местом, где мы родились, выросли и прожили 20 лет, местом, где продолжают жить наши друзья и родственники, куда всегда приятно возвращаться, несмотря на то, что здесь происходит и как складываются наши отношения. Родной город для нас теперь не абстрактное понятие, а наш город, вот этот вполне конкретный Киров, потому что теперь нам уже есть, с чем его сравнивать, потому что появилось, уже взрослое понимание того, для чего нам было нужно участие в этом проекте. И мы теперь можем по-другому рассуждать о том, почему может быть необходимо уехать или остаться, и возвращаться, понимать, чем интересен этот проект. А он очень интересен. С Борисом Дмитриевичем по-другому просто быть не может.
Прошло уже более 11 лет, а получается, что проект для нас, так или иначе, продолжается как исследовательский. Продолжают возникать важные вопросы, поиск ответов на них для себя. Сейчас мы, конечно, встречаемся уже реже. А в первые годы встречались очень часто. И когда встречаемся, продолжаем играть в те, игры, в которые играли в лагере, которые, кроме нас, не знает никто. Они продолжают создавать для нас наше общее пространство.
- Расскажите, о какой-нибудь из этих игр.
- Ну, например «Сосиска – кетчуп - Кока-Кола». Это такая подвижная игра на взаимодействие. Все выстраиваются паровозиком, но так, чтобы расстояние между каждым из игроков было достаточно большим, чтобы можно было совершать какие-то движения. И дальше они начинают перемещаться. Когда делают шаг правой ногой, говорят «сосиска», когда делают шаг левой ногой, говорят «кетчуп», а когда приседают, говорят «кока-кола». Вам, например, эти слова ни о чем не говорят, а для нас это как бы пароль, ритуал, создающий общее поле, затрагивающий общие воспоминания и ассоциации. Для нас это такая штучка, которая поднимает настроение и уровень позитивных эмоций.
- Кто-то ещё, кроме Вас, из участников проекта, благодаря нему, связал свою профессиональную деятельность с театром?
- Да. Ещё одна девочка.
- Какие трудности возникали во время участия в проекте?
- У меня возникала трудность говорить: в самом начале, когда у меня брали интервью. Возникала трудность взаимодействия и работы в коллективе, где все ребята намного старше меня, а вокруг взрослые дяди и тети. Мне во время обсуждений было трудно начать говорить, точнее, взять слово. Например, говорили про субкультуру, и мне было, о чем рассказать, но мне было сложно начать, потому что я младше других. Первые несколько дней на репетициях я больше молчал и слушал, хотя в лагере я был активным, позитивным и общительным весельчаком. Все не понимали, почему я молчу: отчасти я стеснялся, отчасти для меня в тот момент было важнее слушать. Я надеялся, что в процессе мне постепенно удастся это преодолеть. Так и случилось. Потом я постепенно разговорился и начал больше себе позволять и высказываться.
- Эта боязнь высказываться больше случалась на репетициях или на спектаклях?
- На репетициях. На спектакле уже сложилась жёсткая структура и более-менее фиксированный текст.
- То есть на спектакле Вы все время повторяли примерно одно и то же?
- Да. Всё-таки мы были ещё детьми, и полной свободы высказывания во время спектакля нам не давали. Не то, чтобы мы все время повторяли текст «слово в слово», мы говорили своими словами, и этот текст был рожден нами, но он почти всегда был про одно и то же, и примерно одинаковым. Не могло такого быть, чтобы на спектакле я говорил со сцены то, о чем, я ещё ни разу не говорил. Такие моменты происходили только на репетициях.
- Но ведь в течение года могли меняться, настроение, ситуации и ваше к ним отношение, вас могло взволновать что-то другое более сильно, чем то, что волновало раньше. Например, негорящий фонарь, который Вас раздражал, мог вдруг загореться, потому что Вы были услышаны или по какой-то другой причине. Вы все равно продолжали бы говорить в спектакле, что фонарь не горит и Вас это раздражает?
- Ну, во-первых, поэтому спектакль и игрался всего только год, чтобы не приходилось многого в нем менять. Во-вторых, мы все-таки не буквально говорили, о каких-то конкретных вещах и фактах, а на опосредованных тонких гранях. В этом было больше «зачем» и «почему», чем «что», больше моментов понимания себя. И с текстом в процессе спектакля можно было себе уже позволить немного поиграть, как с хорошо освоенным материалом, а не только с личным высказыванием, которое тебе важно донести до зрителей. Если через полгода меня уже меньше волнуют негорящие фонари и лужи, то во время спектакля этот момент можно немного сгладить и усилить какой-то другой акцент. В-третьих, у нас перед каждым спектаклем всегда происходили полноценные репетиции, и если кто-то понимал, что ему остро хочется, необходимо что-то изменить, то этот вопрос решался на репетиции вместе с Борисом Дмитриевичем. И иногда в спектакле всё же что-то менялось, а иногда договаривались о том, что будем продолжать говорить о том же, что и раньше, но немного этот момент сгладим. Но это не могло случиться внезапно прямо на спектакле, все заранее обговаривалось и решалось на репетиции.
- Как выстраивались и складывались отношения с другими школьниками?
- По-разному. И тут я не могу говорить за всех 12 человек, а только за себя. Кто-то поздравлял меня с премьерой и говорил: «как здорово, что твоя мечта сбылась, и ты стал ближе к театру именно в этом очень важном для города социальном проекте». А кто-то говорил: «да ну, если рассматривать это как путь в театр, то все это как-то несерьёзно, документальный театр и вербатим – это не настоящий театр, не искусство, зачем тебе это надо?»
В школах это, в основном, вызывало поддержку, говорили, что мы молодцы, что для нас и для школы это очень важно и нужно, что это интересно.
Со мной произошла такая история. В спектакле у каждого из нас были эпизоды, где каждый рассказывал о том, что волнует больше всего его лично. И я рассказывал историю о своем бывшем друге, о друге детства, с которым мы в какой-то момент по разным причинам перестали общаться, и после этого у меня остался какой-то неприятный осадок. Я рассказывал об этом, не называя имён и конкретных обстоятельств, но я рассказывал конкретно. Об эмоциях, которые я переживал в связи с этим. О том, в чем я оказался не прав. О том, что я часто говорил своим родителям «посмотрите, как мы живём, и как живут они», потому что на тот момент в семье друга был более высокий уровень жизни и более гармонично складывались отношения. А потом ситуация изменилась, и у нас в семье, дела пошли лучше, чем у них. Я рассказывал об этом на каждом спектакле. И однажды, вернувшись домой, увидел в своем телефоне сообщение от него. В этот вечер он вместе со своим классом побывал на нашем спектакле. А я не знал о том, чтобы он был в зале. Если бы я знал, я все равно бы рассказал эту историю так, как есть. Но, может быть, немного по-другому, может быть, кое-что в ней сгладил бы. И для меня это, конечно, стало, большим потрясением. Ему на тот момент было лет 16, и он мне с такой интересной формулировкой написал: «А с какой это стати ты вдруг вообще про меня вспомнил? Я думал, что все это для нас осталось в прошлом». И я ему рассказал, что это не вдруг, что это было запланировано, что я на каждом спектакле о нем рассказываю и буду рассказывать, потому что это воспоминание о важной для меня части жизни, которая продолжает меня волновать.
И для него на спектакле тоже произошло что-то очень важное. Я даже не стал у него уточнять, знал ли он, что я играю в этом спектакле или пришел вместе с классом, ничего не подозревая об этом. И мы с ним снова начали общаться. И снова мы проводили вместе с ним много времени. Мы разобрались в том, что между нами произошло, выяснили, что между нами больше не стоит никаких претензий и обид, ударили по рукам, поняли, что наша дружба была для нас в свое время очень важной и нужной. Но что-то изменилось в жизни каждого из нас, начался новый этап и новые интересы, мы не стали такими же друзьями, как прежде, но остались добрыми приятелями. Этот парень, сейчас живёт в Москве, мы с ним переписываемся и дружим в соцсетях. И я знаю, что все у него хорошо.
Но в то время это стало для меня очень острым моментом, с которым я пришел к Борису Дмитриевичу и спрашивал, как мне с этим быть дальше: и во время спектакля, и в жизни. И он мне помог с этим разобраться, не только как режиссер артисту, но и как более опытный человек, менее опытному. Он стал для нас не только режиссером, но и педагогом. Он нас взял под крыло и опекал, опекал, опекал до окончания этого проекта, да и после. Когда мы сочиняли «Возвращение» он тоже очень активно с нами переписывался, взаимодействовал, что-то советовал, комментировал, подсказывал.
- Как формировался зрительный зал?
- Билеты всегда продавались в кассе свободно. Если кто-то заинтересовался спектаклем в индивидуальном порядке, для него всегда находились один-два билета. И билеты расходились быстро и хорошо. Иногда были целевые спектакли, на которые собирались две-три школы. На выездных спектаклях, преобладала чаще целевая аудитория. Но нецелевых спектаклей было, конечно, больше.
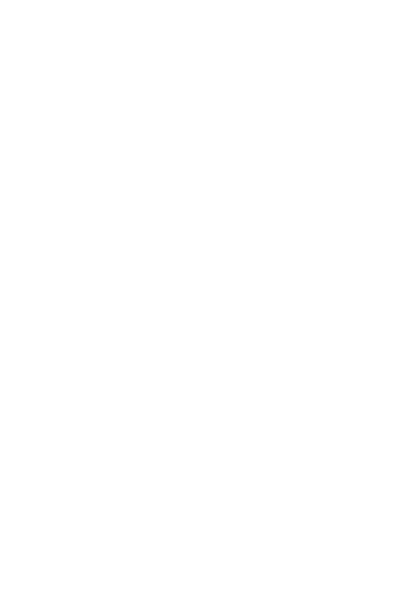
Б.Д. Павлович на обсуждении спектакля
- Каким образом строились обсуждения? Как все происходило?
- Это очень зависело от зрительской аудитории. После премьеры у нас на обсуждении присутствовал Никита Белых, который тогда был губернатором города. И часть вопросов была адресована ему, а часть нам. А на последующих обсуждениях всегда на сцену выходил Борис Дмитриевич и спрашивал о том, какие у нас и у зрителей возникли мысли и ощущения. И иногда случалось так, что зал сразу включался и проявлял инициативу, а если нет, начинал сам что-то интересное рассказывать и спрашивать, возникают ли по этому поводу какие-то вопросы, согласие или несогласие. В своей профессиональной деятельности я потом взял эту практику на вооружение.
Иногда на обсуждения оставались люди, по каким-то причинам враждебно настроенные.
- Это очень зависело от зрительской аудитории. После премьеры у нас на обсуждении присутствовал Никита Белых, который тогда был губернатором города. И часть вопросов была адресована ему, а часть нам. А на последующих обсуждениях всегда на сцену выходил Борис Дмитриевич и спрашивал о том, какие у нас и у зрителей возникли мысли и ощущения. И иногда случалось так, что зал сразу включался и проявлял инициативу, а если нет, начинал сам что-то интересное рассказывать и спрашивать, возникают ли по этому поводу какие-то вопросы, согласие или несогласие. В своей профессиональной деятельности я потом взял эту практику на вооружение.
Иногда на обсуждения оставались люди, по каким-то причинам враждебно настроенные.
Или им такой тип театра казался неинтересным или люди, сильно любящие свой город обижавшиеся на то, что режиссер, приехавший сюда работать, а значит и жить, поднял вопрос о том, что решение уехать из города может оказаться для его юных жителей правильным: «Как он может провоцировать подобную непатриотичность?» Борис Павлович всегда воспринимал это с юмором и сглаживал конфликтную ситуацию, объяснял, что мы никого ни к чему не призываем и не обязываем.
- Как ещё, помимо обсуждений, осуществлялась обратная связь?
- Люди активно писали посты в соцсетях, в театр приходили представители СМИ, у участников брали интервью. Не было такого, что мы «отпремьерились», и спектакль зажил своей размеренной самостоятельной жизнью. Пока он игрался, он всегда сопровождался обостренным вниманием. Сегодня одни приходят и что-то у нас спрашивают, завтра другие. Ну, и конечно, учитывалось то, что мы ещё школьники, и всё это внимание и обратная связь не сваливались на нас сразу, а распределялись равномерно в течение всего сезона. На гастролях по области спектакль воспринимался примерно с той же актуальностью, что и в городе, рождал диалог. На гастролях в Москве и Петербурге наш спектакль уже рассматривали, как эксперимент, как опыт, который может быть применен в другом городе.
- Как сказалось в вашей школе то, что Вы не учились целых два месяца?
- Не было ощущения, что я что-то пропустил. Я на тот момент, только что поступил в лицей, для которого большое значение имеет творческая жизнь. Для них было важно, что их учеником станет участник такого интересного проекта. Они меня поддерживали и поощряли. И я до сих пор поддерживаю с ними творческую связь. Я там делаю театральный фестиваль, надеюсь, что этим летом он повторится, станет традицией. И в ходе этого фестиваля будет развиваться, в том числе и социальная активность. В течение недели на фестивале происходят творческие встречи с артистами театра и кино, педагогами ГИТИСа и Школы-студии МХАТ. Они приезжают и создают вместе с ребятами что-нибудь интересное.
- Что этот проект привнес в культурную жизнь города?
- Борис Дмитриевич руководил театром семь лет. И проект «Я (не) уеду из Кирова» был реализован примерно посередине этого периода, за который в театральной жизни города произошло ещё много нового. Это было продолжением его творческих поисков, которые на этом не закончились. Позже родился ещё спектакль «Алые паруса», который тоже был событием не исключительно театральным и тесно переплетался с жизнью и историей города. Александр Грин прожил в Вятке довольно долгое время. У нас в городе есть музей-квартира Грина и памятник ему на набережной. В сюжет спектакля вплетались размышления жителей о Грине и о городе, разговоры с сотрудниками музея. Само по себе то, что Павлович семь лет работал в городе – значимое, прекрасное и счастливое для города событие. Событием стало и его расставание с театром. Он предупредил об этом заранее, и город пришел провожать его на вокзал. Я это тоже хорошо помню. Пришли не только сотрудники театра и его зрители, но и участники драматической лаборатории. Борис Павлович создал эту лабораторию для студентов всех ВУЗов нашего города. И люди, чья профессия напрямую вовсе не обязательно была связана с творчеством, получили возможность заниматься там. Занятия проходили два раза в неделю. В основном, туда ходили студенты педагогического и политехнического университетов, занимались актёрским тренингом, иногда выпускали спектакли. Театрального ВУЗа в Кирове нет. Это такой театр не для профессии, а для жизни. Пока я учился в ГИТИСе, я тоже, в какой-то степени, принимал участие в работе этой лаборатории. Катя Лучникова, магистрант программы «Социальный театр» в ГИТИСе, которая предложила Вам со мной пообщаться, тоже там занималась.
С отъездом Павловича, Киров, конечно, в какой-то степени осиротел. Но что-то им начатое, продолжает развиваться. Однако таких проектов сейчас немного. Балетмейстер Ирина Брежнева, работавшая вместе с Борисом Павловичем, продолжает оставаться балетмейстером Кировского ТЮЗа и занимается, кроме всего прочего, инклюзивными проектами. Она сделала спектакль «Во сне я вижу» с участием слепых и слабослышащих детей. Про наш спектакль я уже рассказывал. Обсуждения со зрителями продолжают происходить после любых спектаклей, а не только социально значимых. Но это, конечно, не вызывает такого же резонанса. Такие обсуждения важны: они углубляют и заостряют момент личностной встречи зрителя со спектаклем, восприятия. И для каждого из зрителей это может быть очень ценным. Но это такое «я-ощущение», фиксация встречи с тем, что со мной совпадает, с тем, что тоже про меня. Но осознания всеобщности, встречи с другими, ощущения «мы», продуктивной встречи людей очень по-разному настроенных и на разное нацеленных, на обсуждениях после таких спектаклей не происходит.
- Как Вам кажется, что изменилось в результате проекта для его участников и для города?
- Он всколыхнул много правильных мыслей. Вообще люди стали чаще и больше задумываться о том, что с ними происходит. На сцену вышел очень небольшой процент учеников выпускных классов. Остальные сидели в зале. Но для них тоже что-то важное начало происходить. Они нам на обсуждениях говорили, что тоже теперь будут задумываться о том, что и как. Даже те, кто был не согласен с тем, что звучало со сцены. У них начала более активно формироваться собственная точка зрения. Они стали внимательнее и ответственнее относиться, прежде всего, к своей жизни, к тому, что с ними происходит. В тихой провинциальной жизни много хорошего, но для неё очень характерна тенденция – плыть по течению. И постоянно плыть по течению – это не самое лучшее, из того, что может происходить с людьми.
Хорошо, когда возникает возможность остановиться и осмыслить, что происходит: что хочется продолжать, а что изменить, и как это сделать наилучшим образом. Зачем мне та или иная профессия? Ну, учат в этом городе на юристов, значит, будем учиться на юристов? А хотим ли мы всю дальнейшую жизнь посвятить этой профессии или идём туда учиться просто потому, что это возможно рядом с домом? Нужно ли будет нашему городу впоследствии столько юристов? Может быть, придется потом уехать, чтобы реализовать себя в этой области, а, может быть, она окажется неблизкий, и имеет смысл поискать место, где можно научиться той профессии, которая станет частью твоей жизни и будет востребована в твоём родном городе?
О таких вещах важно задумываться хотя бы иногда. И это полезно не только выпускникам, но и всем остальным. Допустим тем, кто много лет существует в привычной колее «работа – семья, семья – работа», может быть, все это не приносит им счастья? Может быть, было лучше что-то изменить: поменять место жительства или место работы, профессию, просто что-то изменить в своей жизни? Может быть, за город переехать или в другой город, не обязательно более крупный? Это очень нелегко - сорваться с насиженного места, куда-то переехать или что-то изменить. Но многие из вчерашних школьников делают это, как нечто само собой разумеющееся, и у многих получается что-то изменить. Мне кажется, этот опыт может вдохновить более опытных и взрослых людей. С одной стороны, им сложнее на что-то решиться, с другой, больше возможностей это реализовать. Ну, или убедиться, что все, что с ними происходит здесь и сейчас, по-прежнему хорошо и правильно.
Сейчас я и сам студентам преподаю и стараюсь почаще с ними разговаривать о том, зачем они пошли в актерскую профессию, что, благодаря этому, хотят найти. И иногда они говорят нечто такое, что я думаю: «ого, жаль, что в свое время в их жизни не случилось проекта, похожего на тот, что случился у нас, если бы это с ними произошло, возможно, они выстраивали бы свою жизнь иначе».
- Вы сейчас живёте и работаете в Москве?
- В основном, да. Я закончил режиссерский факультет ГИТИСа в мастерской Иосифа Райхельгауза. Сейчас я – приглашенный артист в театре Школа современной пьесы, кроме того, я работаю ещё в двух театральных проектах и преподаю актерское мастерство в ГИТРе (Государственный институт телевидения и радио, Институт кино и телевидения). Когда я пришел в проект Бориса Павловича, я уже определился с профессией, понимал, что буду артистом, и этот процесс для меня был важен возможностью попасть в театр, важен испытанным удивлением и опытом, сильно отличавшимся от уже имеющегося, пониманием того, что в актерской профессии возможна авторская позиция, возможно предлагать и развивать свои идеи, фантазировать, выстраивать общий контекст, а не просто выполнять, досконально воспроизводить указания педагога или режиссера. Я узнал, что возможен и нужен такой театр, где важен именно ты, твоя личность, это был первый опыт документального театра. Когда мы закончили играть спектакль, Борис Дмитриевич продолжал оставаться художественным руководителем театра, а я ещё только пошел в девятый класс, и мне, как минимум, ещё три года предстояло прожить в Кирове. И я сказал, что хочу продолжать взаимодействие в театре. Меня ввели в массовку некоторых спектаклей, и я начал постепенно входить в репертуар театра. Потом начали случаться роли чуть побольше, иногда даже с текстом. И до поступления в ГИТИС я был при театре.
- Это как-то Вам помогло в дальнейшей учебе? Нередко бывает, что педагоги театральных ВУЗов советуют забыть студентам все то, чем они занимались до этого.
- Мне помогло. Наш мастер Иосиф Леонидович Райхельгауз всегда повторял, что нужно иметь практику в театре, что очень важно наращивать опыт. Во время учёбы я продолжал взаимодействовать сначала Кировским ТЮЗом, а потом с Кировским драматическим театром: постоянно ездил туда и обратно, жил в дороге. И это стало для меня очень нужным опытом. А потом уже меня мастер пригласил к себе в театр.
- Что вспоминается чаще всего, что кажется самым важным?
- Много, что вспоминается и очень часто. Вспоминается примерно то, о чем я сейчас рассказывал: кастинг, лагерь, начало репетиций, ощущение театра, сцены, ощущение атмосферы, которая была очень командной и очень доброй. Рождение каких-то общих традиций. Однажды Борис Дмитриевич нам сказал, что если подберешь на сцене гнутый гвоздь – это хорошая примета, получишь новую роль: и все мы, как дураки, ходили по сцене и собирали эти гвозди в огромных количествах. Я до сих пор их храню. И потом поднять гвоздь – стало традицией. Вспоминается, как в театре нам выделили настоящие гримёрки. Вспоминается жизнь, наполненная театральной романтикой, возвращения из театра. Вспоминается, что все мы часто фотографировались вместе возле афиши нашего спектакля. Полный зал, который после спектакля встаёт и пятнадцать минут аплодирует, хотя, вроде, ничего особенного перед ним не произошло: это не «Гамлет» Высоцкого. Но, наверное, всё же удалось, найти точные и нужные слова, вызывающие отклик у многих.
Спектакль получился точно не «про фонарь», а про нашу юность, наши мысли и планы, про наш город, наши семьи, друзей, про память о войне. Я даже не помню сейчас, загорелся этот фонарь в итоге или нет. Сейчас я понимаю, что если нет, то это вполне спокойно можно было пережить, случаются и куда худшие вещи. А фонарь был только поводом для начала общения.
Вспоминается наша уже почти самостоятельная работа над спектаклем «Возвращение». Это ощущение неопределенности, когда не знаешь, что из этого всего выйдет, и не можешь уже постоянно ссылаться и опираться на Павловича. Не очень понятно, как все это организовать: но вдруг к тебе в театр приходят представители СМИ, начинаешь им что-то рассказывать, а потом с удивлением обнаруживаешь, что через 2 дня все билеты проданы. А потом видишь зрителей, которым важно видеть и слышать нас, которым этой команды и такого театра очень не хватает. Хотя это был уже совсем другой спектакль, менее острый и более ностальгический. Милый, но очень важный. Уже и с этого момента прошло почти пять лет… И возникает мысль, не поиграть ли нам ещё раз. Но сейчас я думаю, что мне организационную часть одному уже не потянуть, что если кто-то другой из нас захочет этим заняться, то я с удовольствием подключусь, как участник.
- То есть сейчас, 11 лет спустя, для Вас уже в этом проекте всё-таки поставлена некая точка?
- Скорее, многоточие. Каждый из нас в своём деле самостоятельно продолжает и развивает то, что было заложено этим проектом. Для меня это лицейский фестиваль и мои московские студенты, для кого-то что-то ещё.
- А что было бы, если бы Вас не взяли в этот проект?
- Наверное, я бы продолжал пробиваться в этот театр любыми другими способами: замучил бы весь театр и Павловича лично и, в конце концов, устроился туда работать хотя бы реквизитором. Но потом я всё-таки уехал бы учиться. И за это я очень благодарен своим родителям, которые настроили меня именно таким образом: если мне важно стать артистом, то придется уехать из Кирова, потому что в нем нет театрального ВУЗа, каким бы прекрасными не были мой любимый город и мой родной театр.
- Что бы Вы сегодня ответили на вопрос «что такое лично для Вас Родина»? Какие ассоциации возникают в связи с этим? Правильно ли я понимаю, что это Ваше ощущение надёжного тыла, родившееся в связи с вашим участием в проекте «Я (не) уеду из Кирова» и есть Ваше представление о Родине?
- Наверное, да. Но если быть точнее, то это запах кулис в том театре в то время, когда началось мое участие в проекте. Но это определение родилось у меня сейчас, в процессе нашего разговора. Может быть, если я ещё раз задам себе этот вопрос спустя какое-то время, у меня родится ещё какой-нибудь другой ответ.
- Как ещё, помимо обсуждений, осуществлялась обратная связь?
- Люди активно писали посты в соцсетях, в театр приходили представители СМИ, у участников брали интервью. Не было такого, что мы «отпремьерились», и спектакль зажил своей размеренной самостоятельной жизнью. Пока он игрался, он всегда сопровождался обостренным вниманием. Сегодня одни приходят и что-то у нас спрашивают, завтра другие. Ну, и конечно, учитывалось то, что мы ещё школьники, и всё это внимание и обратная связь не сваливались на нас сразу, а распределялись равномерно в течение всего сезона. На гастролях по области спектакль воспринимался примерно с той же актуальностью, что и в городе, рождал диалог. На гастролях в Москве и Петербурге наш спектакль уже рассматривали, как эксперимент, как опыт, который может быть применен в другом городе.
- Как сказалось в вашей школе то, что Вы не учились целых два месяца?
- Не было ощущения, что я что-то пропустил. Я на тот момент, только что поступил в лицей, для которого большое значение имеет творческая жизнь. Для них было важно, что их учеником станет участник такого интересного проекта. Они меня поддерживали и поощряли. И я до сих пор поддерживаю с ними творческую связь. Я там делаю театральный фестиваль, надеюсь, что этим летом он повторится, станет традицией. И в ходе этого фестиваля будет развиваться, в том числе и социальная активность. В течение недели на фестивале происходят творческие встречи с артистами театра и кино, педагогами ГИТИСа и Школы-студии МХАТ. Они приезжают и создают вместе с ребятами что-нибудь интересное.
- Что этот проект привнес в культурную жизнь города?
- Борис Дмитриевич руководил театром семь лет. И проект «Я (не) уеду из Кирова» был реализован примерно посередине этого периода, за который в театральной жизни города произошло ещё много нового. Это было продолжением его творческих поисков, которые на этом не закончились. Позже родился ещё спектакль «Алые паруса», который тоже был событием не исключительно театральным и тесно переплетался с жизнью и историей города. Александр Грин прожил в Вятке довольно долгое время. У нас в городе есть музей-квартира Грина и памятник ему на набережной. В сюжет спектакля вплетались размышления жителей о Грине и о городе, разговоры с сотрудниками музея. Само по себе то, что Павлович семь лет работал в городе – значимое, прекрасное и счастливое для города событие. Событием стало и его расставание с театром. Он предупредил об этом заранее, и город пришел провожать его на вокзал. Я это тоже хорошо помню. Пришли не только сотрудники театра и его зрители, но и участники драматической лаборатории. Борис Павлович создал эту лабораторию для студентов всех ВУЗов нашего города. И люди, чья профессия напрямую вовсе не обязательно была связана с творчеством, получили возможность заниматься там. Занятия проходили два раза в неделю. В основном, туда ходили студенты педагогического и политехнического университетов, занимались актёрским тренингом, иногда выпускали спектакли. Театрального ВУЗа в Кирове нет. Это такой театр не для профессии, а для жизни. Пока я учился в ГИТИСе, я тоже, в какой-то степени, принимал участие в работе этой лаборатории. Катя Лучникова, магистрант программы «Социальный театр» в ГИТИСе, которая предложила Вам со мной пообщаться, тоже там занималась.
С отъездом Павловича, Киров, конечно, в какой-то степени осиротел. Но что-то им начатое, продолжает развиваться. Однако таких проектов сейчас немного. Балетмейстер Ирина Брежнева, работавшая вместе с Борисом Павловичем, продолжает оставаться балетмейстером Кировского ТЮЗа и занимается, кроме всего прочего, инклюзивными проектами. Она сделала спектакль «Во сне я вижу» с участием слепых и слабослышащих детей. Про наш спектакль я уже рассказывал. Обсуждения со зрителями продолжают происходить после любых спектаклей, а не только социально значимых. Но это, конечно, не вызывает такого же резонанса. Такие обсуждения важны: они углубляют и заостряют момент личностной встречи зрителя со спектаклем, восприятия. И для каждого из зрителей это может быть очень ценным. Но это такое «я-ощущение», фиксация встречи с тем, что со мной совпадает, с тем, что тоже про меня. Но осознания всеобщности, встречи с другими, ощущения «мы», продуктивной встречи людей очень по-разному настроенных и на разное нацеленных, на обсуждениях после таких спектаклей не происходит.
- Как Вам кажется, что изменилось в результате проекта для его участников и для города?
- Он всколыхнул много правильных мыслей. Вообще люди стали чаще и больше задумываться о том, что с ними происходит. На сцену вышел очень небольшой процент учеников выпускных классов. Остальные сидели в зале. Но для них тоже что-то важное начало происходить. Они нам на обсуждениях говорили, что тоже теперь будут задумываться о том, что и как. Даже те, кто был не согласен с тем, что звучало со сцены. У них начала более активно формироваться собственная точка зрения. Они стали внимательнее и ответственнее относиться, прежде всего, к своей жизни, к тому, что с ними происходит. В тихой провинциальной жизни много хорошего, но для неё очень характерна тенденция – плыть по течению. И постоянно плыть по течению – это не самое лучшее, из того, что может происходить с людьми.
Хорошо, когда возникает возможность остановиться и осмыслить, что происходит: что хочется продолжать, а что изменить, и как это сделать наилучшим образом. Зачем мне та или иная профессия? Ну, учат в этом городе на юристов, значит, будем учиться на юристов? А хотим ли мы всю дальнейшую жизнь посвятить этой профессии или идём туда учиться просто потому, что это возможно рядом с домом? Нужно ли будет нашему городу впоследствии столько юристов? Может быть, придется потом уехать, чтобы реализовать себя в этой области, а, может быть, она окажется неблизкий, и имеет смысл поискать место, где можно научиться той профессии, которая станет частью твоей жизни и будет востребована в твоём родном городе?
О таких вещах важно задумываться хотя бы иногда. И это полезно не только выпускникам, но и всем остальным. Допустим тем, кто много лет существует в привычной колее «работа – семья, семья – работа», может быть, все это не приносит им счастья? Может быть, было лучше что-то изменить: поменять место жительства или место работы, профессию, просто что-то изменить в своей жизни? Может быть, за город переехать или в другой город, не обязательно более крупный? Это очень нелегко - сорваться с насиженного места, куда-то переехать или что-то изменить. Но многие из вчерашних школьников делают это, как нечто само собой разумеющееся, и у многих получается что-то изменить. Мне кажется, этот опыт может вдохновить более опытных и взрослых людей. С одной стороны, им сложнее на что-то решиться, с другой, больше возможностей это реализовать. Ну, или убедиться, что все, что с ними происходит здесь и сейчас, по-прежнему хорошо и правильно.
Сейчас я и сам студентам преподаю и стараюсь почаще с ними разговаривать о том, зачем они пошли в актерскую профессию, что, благодаря этому, хотят найти. И иногда они говорят нечто такое, что я думаю: «ого, жаль, что в свое время в их жизни не случилось проекта, похожего на тот, что случился у нас, если бы это с ними произошло, возможно, они выстраивали бы свою жизнь иначе».
- Вы сейчас живёте и работаете в Москве?
- В основном, да. Я закончил режиссерский факультет ГИТИСа в мастерской Иосифа Райхельгауза. Сейчас я – приглашенный артист в театре Школа современной пьесы, кроме того, я работаю ещё в двух театральных проектах и преподаю актерское мастерство в ГИТРе (Государственный институт телевидения и радио, Институт кино и телевидения). Когда я пришел в проект Бориса Павловича, я уже определился с профессией, понимал, что буду артистом, и этот процесс для меня был важен возможностью попасть в театр, важен испытанным удивлением и опытом, сильно отличавшимся от уже имеющегося, пониманием того, что в актерской профессии возможна авторская позиция, возможно предлагать и развивать свои идеи, фантазировать, выстраивать общий контекст, а не просто выполнять, досконально воспроизводить указания педагога или режиссера. Я узнал, что возможен и нужен такой театр, где важен именно ты, твоя личность, это был первый опыт документального театра. Когда мы закончили играть спектакль, Борис Дмитриевич продолжал оставаться художественным руководителем театра, а я ещё только пошел в девятый класс, и мне, как минимум, ещё три года предстояло прожить в Кирове. И я сказал, что хочу продолжать взаимодействие в театре. Меня ввели в массовку некоторых спектаклей, и я начал постепенно входить в репертуар театра. Потом начали случаться роли чуть побольше, иногда даже с текстом. И до поступления в ГИТИС я был при театре.
- Это как-то Вам помогло в дальнейшей учебе? Нередко бывает, что педагоги театральных ВУЗов советуют забыть студентам все то, чем они занимались до этого.
- Мне помогло. Наш мастер Иосиф Леонидович Райхельгауз всегда повторял, что нужно иметь практику в театре, что очень важно наращивать опыт. Во время учёбы я продолжал взаимодействовать сначала Кировским ТЮЗом, а потом с Кировским драматическим театром: постоянно ездил туда и обратно, жил в дороге. И это стало для меня очень нужным опытом. А потом уже меня мастер пригласил к себе в театр.
- Что вспоминается чаще всего, что кажется самым важным?
- Много, что вспоминается и очень часто. Вспоминается примерно то, о чем я сейчас рассказывал: кастинг, лагерь, начало репетиций, ощущение театра, сцены, ощущение атмосферы, которая была очень командной и очень доброй. Рождение каких-то общих традиций. Однажды Борис Дмитриевич нам сказал, что если подберешь на сцене гнутый гвоздь – это хорошая примета, получишь новую роль: и все мы, как дураки, ходили по сцене и собирали эти гвозди в огромных количествах. Я до сих пор их храню. И потом поднять гвоздь – стало традицией. Вспоминается, как в театре нам выделили настоящие гримёрки. Вспоминается жизнь, наполненная театральной романтикой, возвращения из театра. Вспоминается, что все мы часто фотографировались вместе возле афиши нашего спектакля. Полный зал, который после спектакля встаёт и пятнадцать минут аплодирует, хотя, вроде, ничего особенного перед ним не произошло: это не «Гамлет» Высоцкого. Но, наверное, всё же удалось, найти точные и нужные слова, вызывающие отклик у многих.
Спектакль получился точно не «про фонарь», а про нашу юность, наши мысли и планы, про наш город, наши семьи, друзей, про память о войне. Я даже не помню сейчас, загорелся этот фонарь в итоге или нет. Сейчас я понимаю, что если нет, то это вполне спокойно можно было пережить, случаются и куда худшие вещи. А фонарь был только поводом для начала общения.
Вспоминается наша уже почти самостоятельная работа над спектаклем «Возвращение». Это ощущение неопределенности, когда не знаешь, что из этого всего выйдет, и не можешь уже постоянно ссылаться и опираться на Павловича. Не очень понятно, как все это организовать: но вдруг к тебе в театр приходят представители СМИ, начинаешь им что-то рассказывать, а потом с удивлением обнаруживаешь, что через 2 дня все билеты проданы. А потом видишь зрителей, которым важно видеть и слышать нас, которым этой команды и такого театра очень не хватает. Хотя это был уже совсем другой спектакль, менее острый и более ностальгический. Милый, но очень важный. Уже и с этого момента прошло почти пять лет… И возникает мысль, не поиграть ли нам ещё раз. Но сейчас я думаю, что мне организационную часть одному уже не потянуть, что если кто-то другой из нас захочет этим заняться, то я с удовольствием подключусь, как участник.
- То есть сейчас, 11 лет спустя, для Вас уже в этом проекте всё-таки поставлена некая точка?
- Скорее, многоточие. Каждый из нас в своём деле самостоятельно продолжает и развивает то, что было заложено этим проектом. Для меня это лицейский фестиваль и мои московские студенты, для кого-то что-то ещё.
- А что было бы, если бы Вас не взяли в этот проект?
- Наверное, я бы продолжал пробиваться в этот театр любыми другими способами: замучил бы весь театр и Павловича лично и, в конце концов, устроился туда работать хотя бы реквизитором. Но потом я всё-таки уехал бы учиться. И за это я очень благодарен своим родителям, которые настроили меня именно таким образом: если мне важно стать артистом, то придется уехать из Кирова, потому что в нем нет театрального ВУЗа, каким бы прекрасными не были мой любимый город и мой родной театр.
- Что бы Вы сегодня ответили на вопрос «что такое лично для Вас Родина»? Какие ассоциации возникают в связи с этим? Правильно ли я понимаю, что это Ваше ощущение надёжного тыла, родившееся в связи с вашим участием в проекте «Я (не) уеду из Кирова» и есть Ваше представление о Родине?
- Наверное, да. Но если быть точнее, то это запах кулис в том театре в то время, когда началось мое участие в проекте. Но это определение родилось у меня сейчас, в процессе нашего разговора. Может быть, если я ещё раз задам себе этот вопрос спустя какое-то время, у меня родится ещё какой-нибудь другой ответ.
Если Вам понравился материал, Вы можете поделиться им, нажав на кнопку внизу
