Татьяна Зимакова
Делать то, что интересно и радоваться, если это интересно кому-нибудь ещё
Беседа с Дмитрием Порусом
Мы в соцсетях
Окрестности Сокольников когда-то были районом университетских общежитий, поэтому в московской школе N1530 «Школа Ломоносова» стараются поддерживать интеллигентский образ жизни при любых обстоятельствах. Уже более тридцати лет здесь кипят шекспировские страсти, поэтический язык старинных пьес обретает современное звучание и очень хорошо подходит подросткам. В репертуаре школьного театра можно встретиться с пьесами, которые нечасто попадаются в афишах профессионального театра. Поэтому школа в дни спектаклей становится центром культурного и общественного притяжения района, не смотря на то, что недавно неподалеку выросло новое здание Театра Романа Виктюка.
Учитель математики, создатель и художественный руководитель школьного театра «Наш Глобус» Дмитрий Порус размышляет о том, для чего школьникам Шекспир, о выборе пути, и о том, какие изменения происходят с течением времени.
Учитель математики, создатель и художественный руководитель школьного театра «Наш Глобус» Дмитрий Порус размышляет о том, для чего школьникам Шекспир, о выборе пути, и о том, какие изменения происходят с течением времени.
– Ваша театральная студия называется «Глобус» как когда-то Шекспировский театр. Почему Вы решили дать своему театру такое ответственное название?
– В 1989 году, когда наш театр организовывался, он ещё не имел названия. Это был просто школьный театр на птичьих правах, без зарплаты руководителя. Мы пробовали и смотрели, что из этого может получиться.
Потом, поскольку я являюсь большим поклонником пьес Шекспира, мне хотелось попробовать поставить те из них, которыми я болел ещё с детства, приобщить к этому интересу моих учеников.
А потом, это было уже лет 20 назад, мы решили назвать его «Глобус», как у Шекспира. Тем более, что к школе пристроили новое здание, и зал, который отдаленно напоминает сцену шекспировского театра, как он в моем понимании выглядит.
– А до этого был другой зал?
– Да, но мы всегда играем спектакли наоборот. На обычной школьной сцене у нас сидят зрители. Дальше у нас идёт двухъярусный балкон с кулисами, мы его используем для выходов и переодеваний артистов, а посередине мы ставим или двухэтажный деревянный помост – театр, или же просто играем на паркете.
– В 1989 году, когда наш театр организовывался, он ещё не имел названия. Это был просто школьный театр на птичьих правах, без зарплаты руководителя. Мы пробовали и смотрели, что из этого может получиться.
Потом, поскольку я являюсь большим поклонником пьес Шекспира, мне хотелось попробовать поставить те из них, которыми я болел ещё с детства, приобщить к этому интересу моих учеников.
А потом, это было уже лет 20 назад, мы решили назвать его «Глобус», как у Шекспира. Тем более, что к школе пристроили новое здание, и зал, который отдаленно напоминает сцену шекспировского театра, как он в моем понимании выглядит.
– А до этого был другой зал?
– Да, но мы всегда играем спектакли наоборот. На обычной школьной сцене у нас сидят зрители. Дальше у нас идёт двухъярусный балкон с кулисами, мы его используем для выходов и переодеваний артистов, а посередине мы ставим или двухэтажный деревянный помост – театр, или же просто играем на паркете.
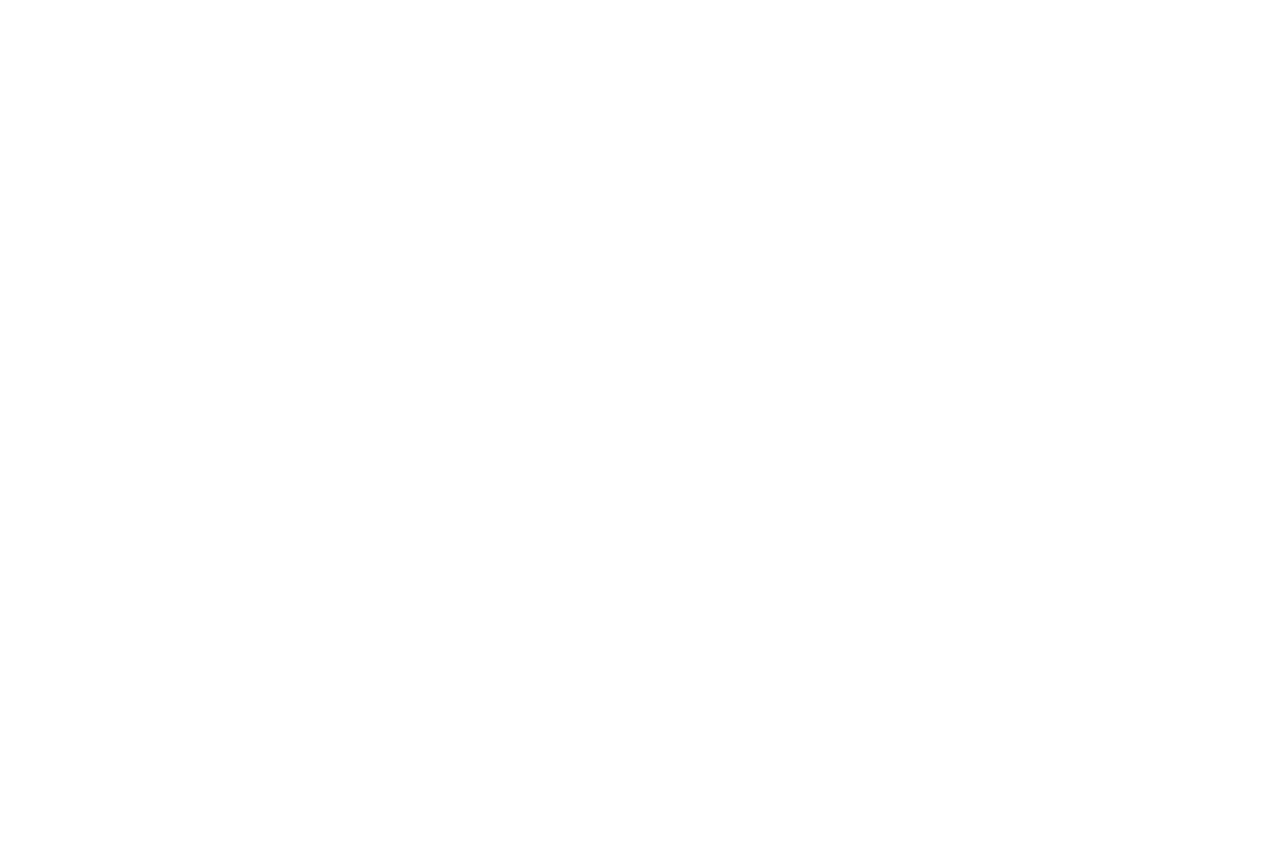
"Каин" Дж.-Г.Байрона (2019), поклоны
– То есть, получается так, что на ваших спектаклях присутствует относительно немного зрителей и основное пространство спектакля игровое?
– На спектакле может присутствовать около 150 зрителей. Они сидят буквой «п». И в этом есть какой-то смысл. Важно, чтобы на спектакле, в котором играют дети, возникала особенно тесная взаимосвязь зрительного зала и сцены. Если зрительный зал большой, это не очень получается, а если нет, возникает уникальный и мощный эффект.
– А откуда у Вас возник такой сильный интерес к Шекспиру, к трагедиям? Это как-то связано с математикой?
- С математикой это никак не коррелируется. Когда я в глубоком детстве решал, кем я буду в будущем, выбор передо мной стоял очень смешной: либо по стопам одной основной части родственников – это педагогика, либо по стопам другой части родственников – это артисты. И мой дядя, Борис Натанович сказал: «А давай это обсудим». Он – учитель, очень известный учитель из Луганска, ученик Шаталова и продолжатель его дела. С отцом мы тогда уже вместе не жили, мои родители развелись. И дядя спросил: «А готов ли ты не зарабатывать большие деньги, будучи артистом или режиссером, готов ли ты к тому, что не все то, что ты сделаешь, будет воспринято "на ура"?» Я был тогда ещё очень маленьким и сказал «нет». Конечно же, я смалодушничал. И тогда он мне сказал: «Давай ты станешь хорошим учителем, а театр останется твоим хобби». И этим мы тогда как-то всё уравновесили.
Так оно потом и случилось. Театром я занимался где-то с класса седьмого-восьмого. В городе Сергиев Посад существовала театральная студия при Дворце культуры имени Гагарина под руководством Надежды Вячеславовны Домбровской, где я играл и «Бориса Годунова», и спектакль о тяжёлом положении темнокожих в Америке, и ещё много чего. И один раз даже попытался немного порежиссировать, когда Надежда Вячеславовна заболела и мы немного не успевали подготовиться к показу. Я изменил декорации, договорившись с партнёрами, мне показалось, что так будет лучше. Потом мне за это попало, а все, что я изменил, вернулось обратно на свои места. Меня это сильно расстроило.
Потом я поступил в МГПУ имени Ленина. Там тоже был свой театр. Его вел Вячеслав Мрктумов. Он тоже видел во мне звезду русской классики: я сыграл Большова в «Банкруте» Островского и Пичема в «Трехгрошовой опере» Брехта.
– Амплуа «главного провокатора»…
Позднее мы с ним неожиданно встретились, когда мы выдвигали наш первый вариант спектакля «Каменный гость» на фестиваль «Хрустальная капелька», я его увидел среди членов жюри.
– Он был профессиональным режиссером?
– Точно не знаю, но, наверное, да. Это был не просто театр, а факультет общественных профессий. У меня в дипломе написано, что я могу быть руководителем театрального коллектива. И свою тайную мечту – сделать театр, я лелеял до 1989 года, пока не оказался здесь, в школе №1530. К этому моменту я уже почти не верил, что когда-нибудь с театром столкнусь, пока Евгения Викторовна Кузнецова, основательница этой гимназии (теперь это опять школа), не предложила нам с моим девятым классом сделать спектакль к открытию школьного музея Ломоносова. Спектакль так и назывался «Михайло Ломоносов». Спектакль удался, и это тогда громко срезонировало. Много писали и говорили о том, что в школе создали музей и открыли его спектаклем.
– Со стихотворениями Ломоносова?
– Конечно. И она предложила попробовать сделать что-нибудь ещё, но для начала без зарплаты. И мы сделали два очень важных для меня спектакля: «Маленькие трагедии» (сцена из «Фауста», «Моцарт и Сальери» и «Каменный гость») и «Ромео и Джульетту» в маленьком зале, с уникальными декорациями, сделанными учителем труда. С этих спектаклей «Глобус» и ведёт сейчас свой отсчет. Прежде всего, получилось создать коллектив единомышленников. Это был 10, а потом 11 класс, старшие ребята, с которыми мы тогда почти не выходили из школы: заканчивались уроки, и мы сразу же начинали репетировать, а расходились только ближе к ночи. И тогда всё это получилось исключительно на одном только энтузиазме, но всем понравилось. И пошло-поехало.
– Это был именно кружок?
– Да. Это определенный способ существования, определенный способ финансирования. Тогда он оказался для нас самым подходящим. Потом структура существования постепенно выстраивалась и изменялась. Сначала я был человеком свободным и неженатым, мог себе позволить посвящать этому всё свое свободное время за очень небольшую доплату, потом это были 8 часов. И это была образовательная программа, выстроить которую нам очень помогла Александра Борисовна Никитина. Это была неотъемлемая часть гимназического образования. Когда человек приходил сюда учиться, он сначала получал возможность расширения, а потом индивидуальный учебный план, индивидуальную траекторию образовательного и личностного развития. И одним из вариантов такой траектории для него могли стать уроки театра. На первое место выходил человек и то, где и как он может себя раскрыть и реализовать наилучшим образом, будь то театр, научное общество или спорт. Мы помогали раскрыть талант и дать ему возможность развиваться. Все понимали, что школа – это единый дом, а театр – его неотъемлемая часть. Все гимназические балы и капустники держались на «Глобусе». А потом произошло резкое сокращение финансирования, потом к этому присоединился ковид, и дети немного изменились. Так что теперь это четыре часа в неделю. Как сохраниться в таких условиях – это сейчас очень сложный и болезненный вопрос, как и то, что такое дополнительное образование, что мы делаем в его рамках и что это нам даёт. И этот вопрос касается не только театра, а школы в целом, в том числе и математики. Нас ученики теперь часто спрашивают: «А если я в театре с Вами сейчас что-то сделаю, мне поставят пятерку, отразиться ли это как-то на моих результатах ЕГЭ?» Поменялся контингент педагогов, учеников и родителей.
– А ученики имели право голоса при выборе пьесы?
– Это достигается путем «ненавязчивого консенсуса». С текстом «Ромео и Джульетты» ученики впервые познакомились под моим чутким руководством не с точки зрения архаики, а с позиции, что можно найти современного в этом старинном тексте. И старая легенда о том, что некоторые реплики из прижизненных изданий Шекспира не сохранились, потому что засалились до дыр, это – история про нас. История про то, как ученики класса с углубленным изучением физики и математики тыкали друг другу пальцами в текст и говорили: «Посмотри, это же про нас». И Меркуцио, его играл, Андрей Солнцев, читал Шекспира под партой на уроке математики и Катя Маштакова, она играла кормилицу. И им очень нравилась сама атмосфера игры. Я тогда почти ничего не умел, как режиссер-педагог, только пробовал как-то взаимодействовать с ребятами, колдовал над созданием некой общности, тусовки. Это все, что я тогда мог. И это была почти секта: все идут, допустим, в кино, а мы продолжаем репетировать. И какие-то яркие проявления эмоций на спектаклях, когда смеются и плачут, были наградой. Это было очень давно и это было очень здорово.
Евгения Викторовна сказала: «Очень хорошо, давайте дальше будем делать кружок на законных основаниях».
– Уже с другими ребятами?
– Да. Изначально не предполагалось, что это будет касаться учеников младшей и средней школы: 9-11 класс, в крайнем случае, восьмиклассники. Я был очень благодарен за то, что нашел в лице учеников единомышленников, с которыми вместе можно задаваться вопросами: как жить дальше, чтобы не было мучительно стыдно за бесцельно прожитые годы? что лучше тихо тлеть или прогореть, но так, чтобы запомнили все остальные? Этот вопрос очень сильно меня волновал всю мою жизнь. Я сам такой человек – огненный. Не могу просто провести тихо какой-нибудь день. И в этом, прежде всего, заслуга матери и отца. Они оба – краснодипломники философского факультета МГУ, а отец ещё и довольно знаменитый философ. И вот этот круг книг, идей, разговоров, которые велись в доме, обсуждение горячих вопросов, споров, возможность сделать выбор, сформировали мой мир. Там, где можно было бы обойтись простыми вещами, я все время усложнял. Мне было интересно, зачем и как жить с сильной натурой, которая борется с судьбой в тяжёлых обстоятельствах, рефлексирует, ведёт за собой, побеждает или гибнет, но меняет мир. Пример яркого горячего человека, борющегося со сложными обстоятельствами, всегда привлекал меня очень сильно. Я о таком и читал в детстве больше всего.
– Потому что это были самые близкие из книг, которые были дома?
– Да. И мне удалось довести эту мысль до подростков. Не знаю, что было для них важнее: то, что мы все время были вместе и вели разговор на равных, или то, что мы всё делали своими руками, то, что со мной можно было поспорить, и в спорах, опираясь на склад их личности и на их мировоззрения, я выстраивал линию будущего спектакля, находя для воплощения спектакля более привычную, более современную для них форму разговора. Но их это захватывало. Нам было так хорошо в самом процессе, что мы иногда думали: «А зачем нам вообще спектакль выпускать?» Это для нас было вторичным вопросом. И мы на первой афише даже написали: «Мы сделали, то, что хотели, и вы можете прийти на это посмотреть, а если вам не понравится то, что мы сделали, вы в любой момент можете выйти, а мы будем и без вас продолжать то, что хотим».
Постепенно появилась мысль, что спектакль, плод наших долгих размышлений, споров и открытий, высказываний - три часа своего времени, которое мы хотим провести с интересными нам людьми. А они – очень интересные, с богатым внутренним миром, с большим потенциалом к развитию, пластичные. Между тем и этим возникает тесное взаимодействие, стоит что-то задеть в человеке, пробудить в нем, как он начинает преображаться. Поэтому и спектакли такие. Создание таких спектаклей возможно, только если вся творческая группа длительное время существует в режиме единения.
Кроме того, вдумчивые и подробные постановки пьес в их полном объеме можно сегодня не часто увидеть на сцене. И с нашей стороны – это ещё и такой рекламный ход навстречу зрителям. Мы даём им такую возможность. Так, например, было, когда мы делали «Троила и Крессиду», пьесу, которая редко встречается в репертуаре, жанр которой невозможно определить однозначно. Кажется, он игрался только в театре «Сфера». Я очень доволен тем, что спектакль получился у нас очень ходовым, замечательным и весёлым.
– В театре Вахтангова ещё был.
– Это уже было потом, после нашего спектакля.
Или спектакль «Мера за меру». Кроме, как у нас, его можно было увидеть только в постановке Деклана Доннеллана во время гастролей театра «Чик Бай Джаул». Это было, кажется в Малом театре, и там было очень мало зрителей, потому что московская публика его тогда ещё почти совсем не знала. И это было грандиозным событием. Мне очень понравилось, то, что он делает и то, как он это делает. И мне это очень импонировало.
– Потом из этого вырос Международный Фестиваль имени Чехова, куратором которого стал Д.Доннелан, так что с тех пор он и его спектакли приезжают к нам часто и пользуются большим успехом.
– Да, да.
– Некоторые из ваших спектаклей идут по четыре часа. Как получается создавать такие масштабные постановки в школьных условиях?
– Да. Так вот такие масштабные спектакли мы могли себе позволить, когда у нас было восемь часов театра в неделю. Сейчас в тех рамках, которые нам предлагаются, особенно не поговоришь. Адаптация произведения должна быть строго определенной и фильтрованной. Времени для обсуждений, для втягивания учеников в процесс становиться меньше. Задача разобраться «а что сейчас со мной происходит» становится основной и выходит на первый план. Для многих учеников сейчас характерна инфантильная рационализация мышления. Они более развиты физиологически, чем эмоционально. Они закрыты, боятся окружающего мира. В основном специфика образовательного процесса в целом не даёт им пространства научиться открываться, доверяться, впускать в свой мир других. Когда мы в первый раз ставили «Ромео и Джульетту» много лет назад, мы долго разговаривали, часто импровизировали. Сейчас у ребят чаще возникают вопросы: «Что я конкретно должен сделать, куда мне лучше пойти, направо или налево». Им бывает сложно расслабиться, попытаться пофантазировать и поимпровизировать, поразмышлять. Они стараются избегать ситуации, в которой можно сделать что-то «лишнее». «Скажите мне, что я конкретно должен сейчас сделать, у меня есть полтора часа, а через полтора часа мама меня заберёт, мы пойдем делать уроки/ в секцию восточных единоборств/ к врачу». И это данность, с которой приходится считаться. И в последнее время у нас рождаются спектакли, в основном, продолжительностью часа на полтора.
– Пьеса Байрона «Каин» - одна из тех пьес, которые традиционно вызывают трудности при попытках осуществить ее сценическую постановку. Это – пьеса поэта. Ее драматизм всё-таки более этический и поэтический, чем театральный. Но театры время от времени к ней иногда обращаются и это свидетельствует о том, что театр находится в состоянии поиска выхода на новый творческий уровень, но не всегда его находит или находит не сразу. Например, в МХТ в свое время «Каин» не получился, после чего этот театр вообще очень долгое время не обращался к пьесам в стихах. Как эта пьеса появилась в Вашем репертуаре? Что она значит для Вашей студии? Какие трудности и открытия проявились в работе над ней?
– «Каин» – последний спектакль, который мы успели сделать в доковидную эпоху, родился как раз уже с учётом этих возникающих противоречий и попыток их разрешить. Там в одном спектакле соединились ребята из двух поколений. Старшие разделяют привычные для нас интеллигентские ценности, интересуются литературой, театром, живописью, жизнью во всех ее проявлениях. А те, кто помладше, уже придерживаются принципа «от и до»: «расскажите мне, что нужно сделать от и до, я это сделаю, а дальше оставьте меня в покое, дальше я вас не пущу, это мое личное пространство и время». Возникает вопрос: чем я должен овладеть на выходе из театральной студии, что мне впишут в диплом, что я смогу вписать в список своих личных достижений? И на этот вопрос сложно ответить однозначно. За 4 часа актерским мастерством в полном объеме не овладеешь. Когда мы занимались по восемь часов, занятия пластикой и актерским мастерством, работа над созданием художественного образа спектакля ложились на очень хорошую почву, формировали личность, единый организм, от которого ничего не отнимешь. А сейчас, когда возникает вопрос «что я делаю», я не могу гарантировать того, что интеллектуальный уровень, пластика и актерское мастерство разовьются у исполнителя роли второго плана в той же степени, что и у актера первого плана, потратившего на это больше сил и времени, так как исполнитель роли второго плана не включается полностью в целостный творческий процесс, как это было раньше. И я даже не всегда могу понять, является ли это его личным мировоззрением и соответствует его желаниям или он просто придерживается линии, заданной ему его родителями. И отсюда вытекают для нас все «зачем» и «почему» этого спектакля.
– Про что для вас получился этот спектакль?
– Он, Каин, – бунтарь.
Образ Создателя, к которому обращаются остальные герои спектакля, это образ догматика, и в этом есть какое-то противоречие. Исключается сомнение, творчество, движение вперед. Предлагается некая догма, которой ты должен следовать, сам не зная, зачем и почему. В этом смысле Люцифер – загнанный в негатив творческий человек, который пробуждает в Каине стремление к сомнению, к движению вперед. На вопрос, зачем мы созданы, не может ответить никто, в том числе, и Создатель. Создав меня, ты предполагаешь меня равным, имеющим право на поиск истины или ты предполагаешь во мне раба? Трагедия в том, что любое сомнение обрекает человека на вечные муки.
Мы хотели поговорить о том, что человеку за все в жизни приходиться платить. За сомнения, за непонимание, за несогласие. Готовы ли вы терпеть лишения, ради того, чтобы на другой чаше весов всегда оставалась возможность поиска истины?
– Мне там видится несколько иная дилемма: Каин, в отличие от Авеля, не хотел убивать никого, в том числе и животных, но, пытаясь доказать это свое право, он убил своего брата, убил человека …
– Не хотел убивать, но убил. Может случиться и такое. Это тоже вариант расплаты, то ли Люцифер подвернулся, то ли судьба твоя такая, но один шаг – и может случится катастрофа, которая, бывает, и случается. И дальше ангел благословляет тебя клеймом и ты вместе с семьёй уходишь куда-то и расходиться с этим старым миром насовсем. Чем ты готов пожертвовать, чтобы сохранить свои убеждения? У меня нет ответа на этот вопрос в жизни, но в рамках художественного произведения мы можем поставить себя в ситуацию выбора. Это очень важно, и со временем становится все более важным. Сейчас нас окружает много «жвачки», много того, что затрудняет понимание смысла нашего существования. И разобраться в этом важно. Без ответа на этот вопрос, мне кажется, дальнейшее существование человека вообще невозможно, это некая воронка, горнило, через которое необходимо так или иначе пройти. Человек должен разобраться в том мусоре, который его окружает. Об этом мы стараемся говорить своими спектаклями.
После этого у нас получился ещё один неплохой вариант «Каменного гостя», с которым мы вышли на «Театральный Олимп».
– Получается, что ваш театр отчасти брехтовский, дискуссионный. Посредством спектакля организуется некая дискуссия?
– Да. Раньше после каждого спектакля меня всегда приглашала к себе директор школы, чтобы уточнить, а про что это мы. И уточнив, про что, говорила: «а, это хорошо». И это очень важно, ведь мы работаем с детьми. Здесь очень много вопросов, которые нужно регулировать, чтобы из лучших побуждений не завести ребенка в дебри, откуда ему самостоятельно не выбраться.
Самый удивительный спектакль, который у нас получился, это спектакль по поэзии Рэмбо. Мы соединили два произведения в одно «Лето в аду» и «Озарение». Получился такой спектакль, как квинтэссенция всех мыслей, о которых я Вам только что рассказывал. Первый вариант спектакля был камерным, мы его играли в литературном музее, а второй мы играли под огромным куполом из ткани, который нависал над нами.
– А как Вы работаете, над произведениями, которые входят в программу по литературе, например, «Горе от ума».
– Прекрасно работаем, потому что текст уже всем знаком. Репетируя «Горе от ума», я разрешил себе и ребятам импровизировать так, как им заблагорассудится. Я понимал, что я хотел сделать, но старался, чтобы это вышло легко, ближе к ним, в игровой форме. Мы делали весь спектакль на этюдах. Мы придумывали всевозможные фишки прямо по ходу репетиций. И тот момент, когда Чацкий появляется из -под стола, как чертик из табакерки, сразу после разговора Фамусова с Софьей и Молчалиным – это тоже результат импровизации. Нам не хотелось, чтобы он вбежал по-старому «чуть свет, Вы на ногах, и я у Ваших ног». Чацкий – это душа, маленький оловянный солдатик, который живёт в каждом доме. Он живёт в каждом из нас, до каких бы степеней падения он не скатился. Он сулит маленький взрыв в будущем, который обязательно должен произойти.
– На спектакле может присутствовать около 150 зрителей. Они сидят буквой «п». И в этом есть какой-то смысл. Важно, чтобы на спектакле, в котором играют дети, возникала особенно тесная взаимосвязь зрительного зала и сцены. Если зрительный зал большой, это не очень получается, а если нет, возникает уникальный и мощный эффект.
– А откуда у Вас возник такой сильный интерес к Шекспиру, к трагедиям? Это как-то связано с математикой?
- С математикой это никак не коррелируется. Когда я в глубоком детстве решал, кем я буду в будущем, выбор передо мной стоял очень смешной: либо по стопам одной основной части родственников – это педагогика, либо по стопам другой части родственников – это артисты. И мой дядя, Борис Натанович сказал: «А давай это обсудим». Он – учитель, очень известный учитель из Луганска, ученик Шаталова и продолжатель его дела. С отцом мы тогда уже вместе не жили, мои родители развелись. И дядя спросил: «А готов ли ты не зарабатывать большие деньги, будучи артистом или режиссером, готов ли ты к тому, что не все то, что ты сделаешь, будет воспринято "на ура"?» Я был тогда ещё очень маленьким и сказал «нет». Конечно же, я смалодушничал. И тогда он мне сказал: «Давай ты станешь хорошим учителем, а театр останется твоим хобби». И этим мы тогда как-то всё уравновесили.
Так оно потом и случилось. Театром я занимался где-то с класса седьмого-восьмого. В городе Сергиев Посад существовала театральная студия при Дворце культуры имени Гагарина под руководством Надежды Вячеславовны Домбровской, где я играл и «Бориса Годунова», и спектакль о тяжёлом положении темнокожих в Америке, и ещё много чего. И один раз даже попытался немного порежиссировать, когда Надежда Вячеславовна заболела и мы немного не успевали подготовиться к показу. Я изменил декорации, договорившись с партнёрами, мне показалось, что так будет лучше. Потом мне за это попало, а все, что я изменил, вернулось обратно на свои места. Меня это сильно расстроило.
Потом я поступил в МГПУ имени Ленина. Там тоже был свой театр. Его вел Вячеслав Мрктумов. Он тоже видел во мне звезду русской классики: я сыграл Большова в «Банкруте» Островского и Пичема в «Трехгрошовой опере» Брехта.
– Амплуа «главного провокатора»…
Позднее мы с ним неожиданно встретились, когда мы выдвигали наш первый вариант спектакля «Каменный гость» на фестиваль «Хрустальная капелька», я его увидел среди членов жюри.
– Он был профессиональным режиссером?
– Точно не знаю, но, наверное, да. Это был не просто театр, а факультет общественных профессий. У меня в дипломе написано, что я могу быть руководителем театрального коллектива. И свою тайную мечту – сделать театр, я лелеял до 1989 года, пока не оказался здесь, в школе №1530. К этому моменту я уже почти не верил, что когда-нибудь с театром столкнусь, пока Евгения Викторовна Кузнецова, основательница этой гимназии (теперь это опять школа), не предложила нам с моим девятым классом сделать спектакль к открытию школьного музея Ломоносова. Спектакль так и назывался «Михайло Ломоносов». Спектакль удался, и это тогда громко срезонировало. Много писали и говорили о том, что в школе создали музей и открыли его спектаклем.
– Со стихотворениями Ломоносова?
– Конечно. И она предложила попробовать сделать что-нибудь ещё, но для начала без зарплаты. И мы сделали два очень важных для меня спектакля: «Маленькие трагедии» (сцена из «Фауста», «Моцарт и Сальери» и «Каменный гость») и «Ромео и Джульетту» в маленьком зале, с уникальными декорациями, сделанными учителем труда. С этих спектаклей «Глобус» и ведёт сейчас свой отсчет. Прежде всего, получилось создать коллектив единомышленников. Это был 10, а потом 11 класс, старшие ребята, с которыми мы тогда почти не выходили из школы: заканчивались уроки, и мы сразу же начинали репетировать, а расходились только ближе к ночи. И тогда всё это получилось исключительно на одном только энтузиазме, но всем понравилось. И пошло-поехало.
– Это был именно кружок?
– Да. Это определенный способ существования, определенный способ финансирования. Тогда он оказался для нас самым подходящим. Потом структура существования постепенно выстраивалась и изменялась. Сначала я был человеком свободным и неженатым, мог себе позволить посвящать этому всё свое свободное время за очень небольшую доплату, потом это были 8 часов. И это была образовательная программа, выстроить которую нам очень помогла Александра Борисовна Никитина. Это была неотъемлемая часть гимназического образования. Когда человек приходил сюда учиться, он сначала получал возможность расширения, а потом индивидуальный учебный план, индивидуальную траекторию образовательного и личностного развития. И одним из вариантов такой траектории для него могли стать уроки театра. На первое место выходил человек и то, где и как он может себя раскрыть и реализовать наилучшим образом, будь то театр, научное общество или спорт. Мы помогали раскрыть талант и дать ему возможность развиваться. Все понимали, что школа – это единый дом, а театр – его неотъемлемая часть. Все гимназические балы и капустники держались на «Глобусе». А потом произошло резкое сокращение финансирования, потом к этому присоединился ковид, и дети немного изменились. Так что теперь это четыре часа в неделю. Как сохраниться в таких условиях – это сейчас очень сложный и болезненный вопрос, как и то, что такое дополнительное образование, что мы делаем в его рамках и что это нам даёт. И этот вопрос касается не только театра, а школы в целом, в том числе и математики. Нас ученики теперь часто спрашивают: «А если я в театре с Вами сейчас что-то сделаю, мне поставят пятерку, отразиться ли это как-то на моих результатах ЕГЭ?» Поменялся контингент педагогов, учеников и родителей.
– А ученики имели право голоса при выборе пьесы?
– Это достигается путем «ненавязчивого консенсуса». С текстом «Ромео и Джульетты» ученики впервые познакомились под моим чутким руководством не с точки зрения архаики, а с позиции, что можно найти современного в этом старинном тексте. И старая легенда о том, что некоторые реплики из прижизненных изданий Шекспира не сохранились, потому что засалились до дыр, это – история про нас. История про то, как ученики класса с углубленным изучением физики и математики тыкали друг другу пальцами в текст и говорили: «Посмотри, это же про нас». И Меркуцио, его играл, Андрей Солнцев, читал Шекспира под партой на уроке математики и Катя Маштакова, она играла кормилицу. И им очень нравилась сама атмосфера игры. Я тогда почти ничего не умел, как режиссер-педагог, только пробовал как-то взаимодействовать с ребятами, колдовал над созданием некой общности, тусовки. Это все, что я тогда мог. И это была почти секта: все идут, допустим, в кино, а мы продолжаем репетировать. И какие-то яркие проявления эмоций на спектаклях, когда смеются и плачут, были наградой. Это было очень давно и это было очень здорово.
Евгения Викторовна сказала: «Очень хорошо, давайте дальше будем делать кружок на законных основаниях».
– Уже с другими ребятами?
– Да. Изначально не предполагалось, что это будет касаться учеников младшей и средней школы: 9-11 класс, в крайнем случае, восьмиклассники. Я был очень благодарен за то, что нашел в лице учеников единомышленников, с которыми вместе можно задаваться вопросами: как жить дальше, чтобы не было мучительно стыдно за бесцельно прожитые годы? что лучше тихо тлеть или прогореть, но так, чтобы запомнили все остальные? Этот вопрос очень сильно меня волновал всю мою жизнь. Я сам такой человек – огненный. Не могу просто провести тихо какой-нибудь день. И в этом, прежде всего, заслуга матери и отца. Они оба – краснодипломники философского факультета МГУ, а отец ещё и довольно знаменитый философ. И вот этот круг книг, идей, разговоров, которые велись в доме, обсуждение горячих вопросов, споров, возможность сделать выбор, сформировали мой мир. Там, где можно было бы обойтись простыми вещами, я все время усложнял. Мне было интересно, зачем и как жить с сильной натурой, которая борется с судьбой в тяжёлых обстоятельствах, рефлексирует, ведёт за собой, побеждает или гибнет, но меняет мир. Пример яркого горячего человека, борющегося со сложными обстоятельствами, всегда привлекал меня очень сильно. Я о таком и читал в детстве больше всего.
– Потому что это были самые близкие из книг, которые были дома?
– Да. И мне удалось довести эту мысль до подростков. Не знаю, что было для них важнее: то, что мы все время были вместе и вели разговор на равных, или то, что мы всё делали своими руками, то, что со мной можно было поспорить, и в спорах, опираясь на склад их личности и на их мировоззрения, я выстраивал линию будущего спектакля, находя для воплощения спектакля более привычную, более современную для них форму разговора. Но их это захватывало. Нам было так хорошо в самом процессе, что мы иногда думали: «А зачем нам вообще спектакль выпускать?» Это для нас было вторичным вопросом. И мы на первой афише даже написали: «Мы сделали, то, что хотели, и вы можете прийти на это посмотреть, а если вам не понравится то, что мы сделали, вы в любой момент можете выйти, а мы будем и без вас продолжать то, что хотим».
Постепенно появилась мысль, что спектакль, плод наших долгих размышлений, споров и открытий, высказываний - три часа своего времени, которое мы хотим провести с интересными нам людьми. А они – очень интересные, с богатым внутренним миром, с большим потенциалом к развитию, пластичные. Между тем и этим возникает тесное взаимодействие, стоит что-то задеть в человеке, пробудить в нем, как он начинает преображаться. Поэтому и спектакли такие. Создание таких спектаклей возможно, только если вся творческая группа длительное время существует в режиме единения.
Кроме того, вдумчивые и подробные постановки пьес в их полном объеме можно сегодня не часто увидеть на сцене. И с нашей стороны – это ещё и такой рекламный ход навстречу зрителям. Мы даём им такую возможность. Так, например, было, когда мы делали «Троила и Крессиду», пьесу, которая редко встречается в репертуаре, жанр которой невозможно определить однозначно. Кажется, он игрался только в театре «Сфера». Я очень доволен тем, что спектакль получился у нас очень ходовым, замечательным и весёлым.
– В театре Вахтангова ещё был.
– Это уже было потом, после нашего спектакля.
Или спектакль «Мера за меру». Кроме, как у нас, его можно было увидеть только в постановке Деклана Доннеллана во время гастролей театра «Чик Бай Джаул». Это было, кажется в Малом театре, и там было очень мало зрителей, потому что московская публика его тогда ещё почти совсем не знала. И это было грандиозным событием. Мне очень понравилось, то, что он делает и то, как он это делает. И мне это очень импонировало.
– Потом из этого вырос Международный Фестиваль имени Чехова, куратором которого стал Д.Доннелан, так что с тех пор он и его спектакли приезжают к нам часто и пользуются большим успехом.
– Да, да.
– Некоторые из ваших спектаклей идут по четыре часа. Как получается создавать такие масштабные постановки в школьных условиях?
– Да. Так вот такие масштабные спектакли мы могли себе позволить, когда у нас было восемь часов театра в неделю. Сейчас в тех рамках, которые нам предлагаются, особенно не поговоришь. Адаптация произведения должна быть строго определенной и фильтрованной. Времени для обсуждений, для втягивания учеников в процесс становиться меньше. Задача разобраться «а что сейчас со мной происходит» становится основной и выходит на первый план. Для многих учеников сейчас характерна инфантильная рационализация мышления. Они более развиты физиологически, чем эмоционально. Они закрыты, боятся окружающего мира. В основном специфика образовательного процесса в целом не даёт им пространства научиться открываться, доверяться, впускать в свой мир других. Когда мы в первый раз ставили «Ромео и Джульетту» много лет назад, мы долго разговаривали, часто импровизировали. Сейчас у ребят чаще возникают вопросы: «Что я конкретно должен сделать, куда мне лучше пойти, направо или налево». Им бывает сложно расслабиться, попытаться пофантазировать и поимпровизировать, поразмышлять. Они стараются избегать ситуации, в которой можно сделать что-то «лишнее». «Скажите мне, что я конкретно должен сейчас сделать, у меня есть полтора часа, а через полтора часа мама меня заберёт, мы пойдем делать уроки/ в секцию восточных единоборств/ к врачу». И это данность, с которой приходится считаться. И в последнее время у нас рождаются спектакли, в основном, продолжительностью часа на полтора.
– Пьеса Байрона «Каин» - одна из тех пьес, которые традиционно вызывают трудности при попытках осуществить ее сценическую постановку. Это – пьеса поэта. Ее драматизм всё-таки более этический и поэтический, чем театральный. Но театры время от времени к ней иногда обращаются и это свидетельствует о том, что театр находится в состоянии поиска выхода на новый творческий уровень, но не всегда его находит или находит не сразу. Например, в МХТ в свое время «Каин» не получился, после чего этот театр вообще очень долгое время не обращался к пьесам в стихах. Как эта пьеса появилась в Вашем репертуаре? Что она значит для Вашей студии? Какие трудности и открытия проявились в работе над ней?
– «Каин» – последний спектакль, который мы успели сделать в доковидную эпоху, родился как раз уже с учётом этих возникающих противоречий и попыток их разрешить. Там в одном спектакле соединились ребята из двух поколений. Старшие разделяют привычные для нас интеллигентские ценности, интересуются литературой, театром, живописью, жизнью во всех ее проявлениях. А те, кто помладше, уже придерживаются принципа «от и до»: «расскажите мне, что нужно сделать от и до, я это сделаю, а дальше оставьте меня в покое, дальше я вас не пущу, это мое личное пространство и время». Возникает вопрос: чем я должен овладеть на выходе из театральной студии, что мне впишут в диплом, что я смогу вписать в список своих личных достижений? И на этот вопрос сложно ответить однозначно. За 4 часа актерским мастерством в полном объеме не овладеешь. Когда мы занимались по восемь часов, занятия пластикой и актерским мастерством, работа над созданием художественного образа спектакля ложились на очень хорошую почву, формировали личность, единый организм, от которого ничего не отнимешь. А сейчас, когда возникает вопрос «что я делаю», я не могу гарантировать того, что интеллектуальный уровень, пластика и актерское мастерство разовьются у исполнителя роли второго плана в той же степени, что и у актера первого плана, потратившего на это больше сил и времени, так как исполнитель роли второго плана не включается полностью в целостный творческий процесс, как это было раньше. И я даже не всегда могу понять, является ли это его личным мировоззрением и соответствует его желаниям или он просто придерживается линии, заданной ему его родителями. И отсюда вытекают для нас все «зачем» и «почему» этого спектакля.
– Про что для вас получился этот спектакль?
– Он, Каин, – бунтарь.
Образ Создателя, к которому обращаются остальные герои спектакля, это образ догматика, и в этом есть какое-то противоречие. Исключается сомнение, творчество, движение вперед. Предлагается некая догма, которой ты должен следовать, сам не зная, зачем и почему. В этом смысле Люцифер – загнанный в негатив творческий человек, который пробуждает в Каине стремление к сомнению, к движению вперед. На вопрос, зачем мы созданы, не может ответить никто, в том числе, и Создатель. Создав меня, ты предполагаешь меня равным, имеющим право на поиск истины или ты предполагаешь во мне раба? Трагедия в том, что любое сомнение обрекает человека на вечные муки.
Мы хотели поговорить о том, что человеку за все в жизни приходиться платить. За сомнения, за непонимание, за несогласие. Готовы ли вы терпеть лишения, ради того, чтобы на другой чаше весов всегда оставалась возможность поиска истины?
– Мне там видится несколько иная дилемма: Каин, в отличие от Авеля, не хотел убивать никого, в том числе и животных, но, пытаясь доказать это свое право, он убил своего брата, убил человека …
– Не хотел убивать, но убил. Может случиться и такое. Это тоже вариант расплаты, то ли Люцифер подвернулся, то ли судьба твоя такая, но один шаг – и может случится катастрофа, которая, бывает, и случается. И дальше ангел благословляет тебя клеймом и ты вместе с семьёй уходишь куда-то и расходиться с этим старым миром насовсем. Чем ты готов пожертвовать, чтобы сохранить свои убеждения? У меня нет ответа на этот вопрос в жизни, но в рамках художественного произведения мы можем поставить себя в ситуацию выбора. Это очень важно, и со временем становится все более важным. Сейчас нас окружает много «жвачки», много того, что затрудняет понимание смысла нашего существования. И разобраться в этом важно. Без ответа на этот вопрос, мне кажется, дальнейшее существование человека вообще невозможно, это некая воронка, горнило, через которое необходимо так или иначе пройти. Человек должен разобраться в том мусоре, который его окружает. Об этом мы стараемся говорить своими спектаклями.
После этого у нас получился ещё один неплохой вариант «Каменного гостя», с которым мы вышли на «Театральный Олимп».
– Получается, что ваш театр отчасти брехтовский, дискуссионный. Посредством спектакля организуется некая дискуссия?
– Да. Раньше после каждого спектакля меня всегда приглашала к себе директор школы, чтобы уточнить, а про что это мы. И уточнив, про что, говорила: «а, это хорошо». И это очень важно, ведь мы работаем с детьми. Здесь очень много вопросов, которые нужно регулировать, чтобы из лучших побуждений не завести ребенка в дебри, откуда ему самостоятельно не выбраться.
Самый удивительный спектакль, который у нас получился, это спектакль по поэзии Рэмбо. Мы соединили два произведения в одно «Лето в аду» и «Озарение». Получился такой спектакль, как квинтэссенция всех мыслей, о которых я Вам только что рассказывал. Первый вариант спектакля был камерным, мы его играли в литературном музее, а второй мы играли под огромным куполом из ткани, который нависал над нами.
– А как Вы работаете, над произведениями, которые входят в программу по литературе, например, «Горе от ума».
– Прекрасно работаем, потому что текст уже всем знаком. Репетируя «Горе от ума», я разрешил себе и ребятам импровизировать так, как им заблагорассудится. Я понимал, что я хотел сделать, но старался, чтобы это вышло легко, ближе к ним, в игровой форме. Мы делали весь спектакль на этюдах. Мы придумывали всевозможные фишки прямо по ходу репетиций. И тот момент, когда Чацкий появляется из -под стола, как чертик из табакерки, сразу после разговора Фамусова с Софьей и Молчалиным – это тоже результат импровизации. Нам не хотелось, чтобы он вбежал по-старому «чуть свет, Вы на ногах, и я у Ваших ног». Чацкий – это душа, маленький оловянный солдатик, который живёт в каждом доме. Он живёт в каждом из нас, до каких бы степеней падения он не скатился. Он сулит маленький взрыв в будущем, который обязательно должен произойти.
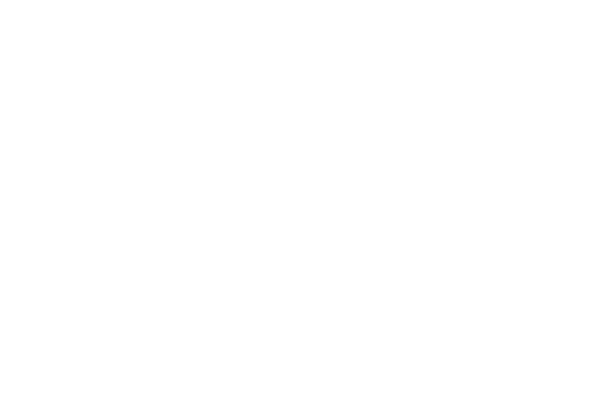
"Горе от ума" А. С. Грибоедова (2016)
– Как бы как часть каждого из персонажей ?
– Да. Это такой вопрос. Ты должен обязательно взорваться. Но можешь взорваться, как шарик, пустой и надутый, а можешь оставить после себя свет, как маленький фонарик, который в финале нашего спектакля держат слуги Петрушка и Лиза. Мы его будем помнить, он взорвался не просто так, он потом обязательно как-то возрастёт в нас. Мы понимаем, о чём нам хотел рассказать Александр Андреевич.
– Но то, что получилось, больше похоже на социальную драму. Возникает ли у Вас желание поставить веселую комедию?
– Да. Это такой вопрос. Ты должен обязательно взорваться. Но можешь взорваться, как шарик, пустой и надутый, а можешь оставить после себя свет, как маленький фонарик, который в финале нашего спектакля держат слуги Петрушка и Лиза. Мы его будем помнить, он взорвался не просто так, он потом обязательно как-то возрастёт в нас. Мы понимаем, о чём нам хотел рассказать Александр Андреевич.
– Но то, что получилось, больше похоже на социальную драму. Возникает ли у Вас желание поставить веселую комедию?
– Вы, наверное, даже себе не представляете, насколько это весело – работать над трагедией с подростками. Мы так веселимся, когда думаем над тем, как изобразить все эти убиенные трупы. Но единственный чисто комедийный спектакль, который у нас получился – это «Мера за меру». Там мы нашли подходящую форму, чтобы воплотить весь этот наш хохот через язык шекспировского действа. Тем более, что мы тогда сотрудничали с Вадимом Маевским, который сейчас пишет музыку к современным художественным фильмам. А тогда это был просто хороший наш знакомый студент, фронтмен группы «Суп харчо», которая выступала в кафе и ресторанчиках. И он вместе с группой сочинил для нас уникальную музыку. Они прятались на втором этаже за кулисами и играли ее вживую. Тогда студенчество активно внедрялось в наши ряды. И получилась такая интересная штука. Я сам в этом спектакле с большим удовольствием играл, хотя крайне редко такими вещами занимаюсь.
– А к более современным жанрам, например, документальному театру или вербатиму не возникает желание обратиться?
– Самый современный спектакль, который у нас получился, это был «Тиль», но современным он стал благодаря тем выразительным средствам, к которым мы обращались.
– А к более современным жанрам, например, документальному театру или вербатиму не возникает желание обратиться?
– Самый современный спектакль, который у нас получился, это был «Тиль», но современным он стал благодаря тем выразительным средствам, к которым мы обращались.
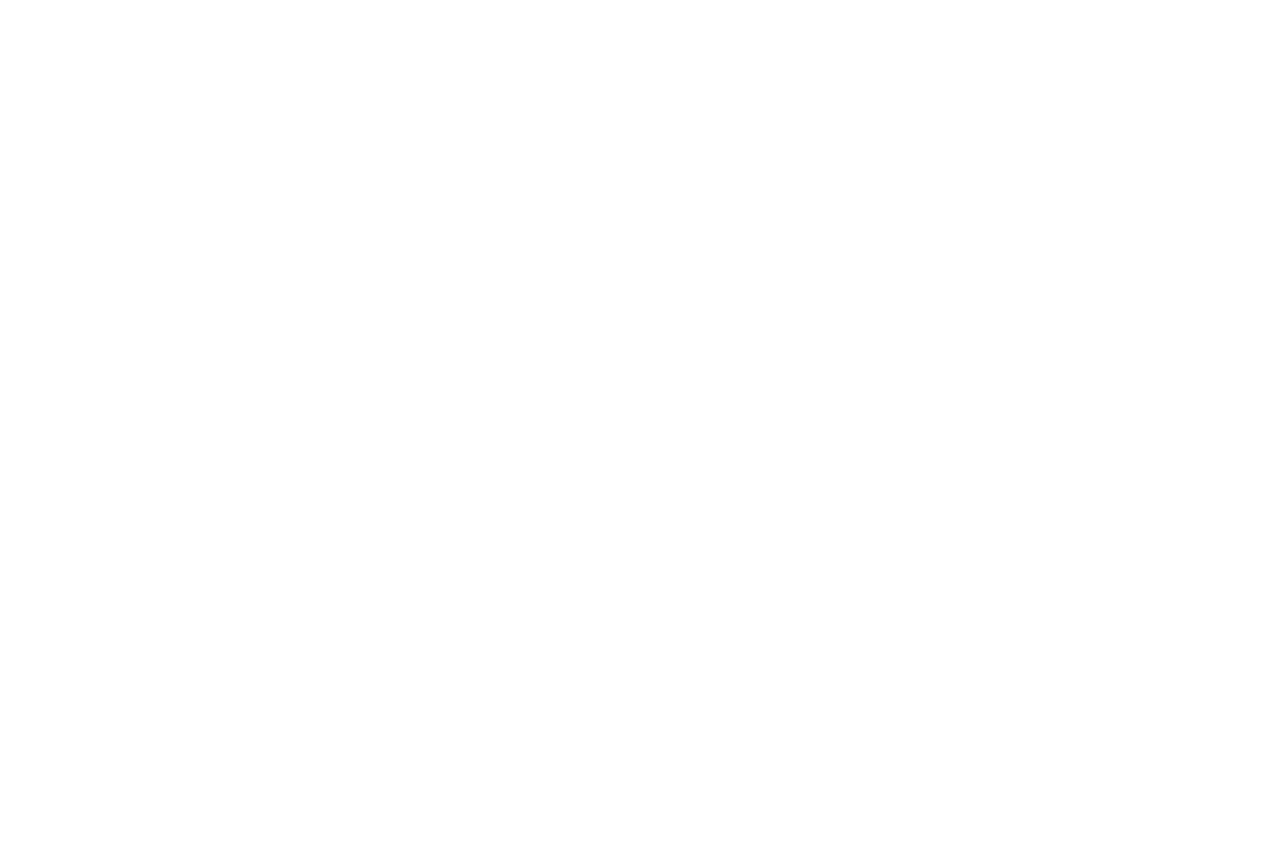
"Тиль" Г. Горина (2014) Тиль - Алексей Головко
– А своими силами сочинить пьесу не пробовали?
– Пробовали. Но это был спектакль по сонетам Шекспира. Ребятам было просто предложено выбрать те сонеты Шекспира, которые нравятся лично каждому из них, а потом мы их вместе скомпоновали в единое целое. И это была счастливая возможность поимпровизировать. Получился такой современный разговор о любви с элементами старинных танцев, песен, площадных обрядов.
Был момент, очень давно, когда мы обращались к пьесе Теннеси Уильямса «Нечто невысказанное». До более современной драматургии мы, то ли, ещё не доросли, то ли более современные драматурги ещё не попадали в поле нашего зрения. Я не знаю, почему.
– В вашей школе не первый год работают целых три театральных студии. Почему так много? И в чём их отличия? В какой последовательности они возникали? Взаимодействуют ли они друг с другом? И если да, то как именно?
– Появлению «Русского театра» наша школа обязана стремлением Евгении Викторовны уравновесить серьезность «Глобуса» чем-то более весёлым, дать возможность проявить себя на сцене тем, кто предпочитает искрометное игровое начало дискуссиям и размышлениям, воспринимает все более оптимистично и легко. Там предпочитают пьесы Островского, рассказы Чехова, фарс и капустник. И между нами любопытство по отношению друг к другу, творческое соревнование, творческая интрига, некий вызов, попытки взаимодействия, соперничества и сотрудничества, в результате которых мы время от времени обращаемся к русской классике, потому что мы ее тоже можем воплотить, но в свойственной нашей студии манере. Так, например, у нас появился «Вишневый сад», «Горе от ума», Пушкин. Как-то однажды даже возникла мысль обратиться к Достоевскому, к "Легенде о великом инквизиторе", но как ее воплотить, пока не очень понятно, я пока не решился и не знаю, решусь ли. Опять же, это заостряет вопрос о русской классике: что брать и о чем говорить. Просто веселить публику ради веселья у нас тоже есть возможность на новогодних капустниках и других праздниках, а в спектакле, я думаю, обязательно должна быть пища для мозгов. Вопросы зачем, из-за чего, почему. Как мне кажется, перед человеком всегда возникает некий хлыст, который бьёт его в случае равнодушия, нейтрального отношения к происходящему. Человек не должен быть похожим на молчалинский студень: я вроде бы идеален со всех точек зрения, но тем не менее, много разных знакомств имею, и к Софье Павловне по ночам хожу. Невозможно обойтись только одним серым цветом, обязательно должны быть цвета яркие, встречаться в поле зрения люди, готовые повести за собой, пусть даже спорные или негативные, но яркие. Не должно быть суррогата, ни в искусстве, ни в жизни.
А есть ещё "Театральная мастерская". Они делают «Пигмалиона», «Приключения Буратино». Это очень милые нейтральные вещицы, но я бы так никогда не работал, я бы никогда не потащил детей в эту игру в костюмы. Мы взаимодействуем, ходим к друг другу на спектакли.. Но это ещё и вопрос затрат. В том числе, и моих. Когда мы выпустили первый вариант «Каменного гостя», нашим конкурентом по «Хрустальной капельке» оказалась композиция про Пушкина. Лит монтаж в очень дорогих костюмах: фраки, кринолины, парики и прочее. Но там не было заметно души, было заметно, как дети переоделись в красивые костюмы и стали красивыми. А родителям это приятно. И мне это не близко. Я так не хочу. Этот театр меня не привлекает.
– Но у детей возникает возможность выбора, куда им идти. Как они выбирают?
– Очень просто. Куда лучше вписываются, то и выбирают.
– Ходите ли вы со своими студийцами все вместе в театры, на выставки и т.д.? Есть ли у Вас с детьми общий культурный контекст вне школы?
– Раньше ходили обязательно. А сейчас, насколько позволяют возможности. Возможности позволяют ходить куда-либо, в основном, только со своим классом. Но ведь и студия началась с физико-математических класса. Все, что происходит в школе или организуется в школе, является непосредственным продолжением того, что начинается на уроке. И когда я призываю детей к углубленно у изучению математики, я призываю их к тому, чтобы их решение было осознанным. А не потому, что туда пошли мои друзья или так хотят родители.
С классами мы ходим туда, куда нам хочется ходить вместе. Но в этом главное – не столько ходить, сколько делать то, что нам интересно делать вместе друг с другом. И не только на темы, связанные с театром или с математикой. Пока наш взаимный интерес друг к другу не ослабевает, наверное, стоит работать и стоит театром заниматься. Иногда хорошо бывает просто поговорить. Мы разговариваем о «Мцыри», например. С точки зрения того, что учительница литературы задала выучить отрывок. И с точки зрения того, о чем Лермонтов там написал. В принципе, мы с учительницей литературы говорим об одном и том же, но подводим к этому детей с разных сторон. Можно ли сказать о том, что я чувствую и думаю в связи с этим? И где и как мне это сделать комфортнее? В сочинении или на репетиции? А вообще так можно делать? Можно. Тогда я попробую высказать свои чувства по этому поводу.
Говорим о разном. О взаимоотношениях с родителями, о том, что происходит вокруг, исключая политику. О фильмах, о литературе, о музыке. Со временем это становится все сложнее. Я пытаюсь поделиться тем, что полюбил слушать со своих дремучих времён. Они мне доказывают, что эти же самые темы звучат и в музыке, более современной для них.
– Вы с ними соглашаетесь?
– Да. И это очень характерный прием. Попытаться найти общий язык опосредованно. Через рисование, через музыку, через поэзию. Потому что дискутировать напрямую для ребенка не совсем свойственно: я ещё точно не знаю, что это и как это называется, но хочу об этом высказаться, поэтому предложу некую ассоциацию.
И мне так с ними легче общаться: не объяснять что-то постоянно, а показать через аудио или видеоряд, через действие.
– Ходят ли в студию ученики, которые не очень ладят с математикой?
– Да, постоянно. Так получается, что большинство исполнителей главных ролей в спектаклях с точки зрения математики – двоечники и троечники. Но среди них много людей, которые хорошо танцуют, сочиняют стихи: актеров и музыкантов. И у них есть возможность состояться через творчество, через театр. Несмотря на то, что костяк изначально составлял физико-математический класс и пафос происходящему придавало именно это, сейчас к нам может примкнуть любой желающий, если ему это, правда, надо.
– А по какому принципу сейчас устроена студия? В каждом спектакле заняты ученики одного класса или одной параллели? Или подростки и юношество из разных классов?
– Основу все же по-прежнему составляет мой класс. А дальше – земля слухами полнится. И возраст в этом не является непреодолимой помехой. Было бы что сказать. Приходят и те, кто постарше, и те, кто помладше.
– Но Вы их лично к этому не призываете?
– Я не могу в сложившихся предлагаемых обстоятельствах призывать: «Ребята, приходите ко мне, я научу вас сценическому мастерству». В «Глобус» приходят те, кому есть о чем поговорить.
– Принимают ли родители какое-то участие в рождении студийных спектаклей? И если да, то какое?
– Да, и очень большое. Сначала, когда мы сидели на репетициях целыми вечерами, родители нас подкармливали – приносили сумки с продуктами. Сейчас очень помогают с техническим обеспечением: программки распечатать, сделать видеозапись спектакля с хорошим качеством звука и изображения. А главное – поддержкой: если ребенку это нравится, они дают возможность ему этим заниматься.
– Как взаимодействуют со студией выпускники – бывшие школьники, студенты и совсем взрослые люди?
– У нас есть общий чат, в котором мы переписываемся. Время от времени мы встречаемся, особенно 14 декабря, которое считается днём рождения театра.
В силу нынешних обстоятельств взрослый человек или студент, не имеющий отношение к школе, в школьных спектаклях принимать участие не может. Иначе они не будут засчитываться в отчётах, на конкурсах и на фестивалях. Даже я сейчас не могу в своих спектаклях играть, потому что я взрослый человек. Раньше это было возможным и были спектакли, в которых принимали участие и учителя в небольших ролях, а сейчас его просто не допустят к существованию. Ну, то есть он сможет существовать только как внутри школьное кулуарное дело.
– А для Вас принципиально важно всегда участвовать в конкурсах, или Вы все же можете рискнуть и создать кулуарный спектакль, если это очень интересно с творческой точки зрения?
– Я бы так не ставил вопрос. Мы все же стараемся придерживаться первоначального принципа: делать то, что нам интересно и радоваться тому, что это может быть интересно кому-нибудь ещё. Но предлагаемые обстоятельства требуют от нас участия в конкурсах. Хорошо, когда удается создать спектакль, который соответствует конкурсным требованиям, как это случилось с последней версией «Каменного гостя». А про «Горе от ума» нам сказали: «Вы могли бы выиграть, если бы дети у вас на сцене не выпивали»... Это не дети, а персонажи, но есть какие-то конкурсные условности. Можно обойтись и без этого, а можно и нет. Это не всегда удается. Случается по-разному. И приз на конкурсе или фестивале – это не самоцель. Но какую-то дополнительную мотивацию для детей это все же создаёт.
– Пробовали. Но это был спектакль по сонетам Шекспира. Ребятам было просто предложено выбрать те сонеты Шекспира, которые нравятся лично каждому из них, а потом мы их вместе скомпоновали в единое целое. И это была счастливая возможность поимпровизировать. Получился такой современный разговор о любви с элементами старинных танцев, песен, площадных обрядов.
Был момент, очень давно, когда мы обращались к пьесе Теннеси Уильямса «Нечто невысказанное». До более современной драматургии мы, то ли, ещё не доросли, то ли более современные драматурги ещё не попадали в поле нашего зрения. Я не знаю, почему.
– В вашей школе не первый год работают целых три театральных студии. Почему так много? И в чём их отличия? В какой последовательности они возникали? Взаимодействуют ли они друг с другом? И если да, то как именно?
– Появлению «Русского театра» наша школа обязана стремлением Евгении Викторовны уравновесить серьезность «Глобуса» чем-то более весёлым, дать возможность проявить себя на сцене тем, кто предпочитает искрометное игровое начало дискуссиям и размышлениям, воспринимает все более оптимистично и легко. Там предпочитают пьесы Островского, рассказы Чехова, фарс и капустник. И между нами любопытство по отношению друг к другу, творческое соревнование, творческая интрига, некий вызов, попытки взаимодействия, соперничества и сотрудничества, в результате которых мы время от времени обращаемся к русской классике, потому что мы ее тоже можем воплотить, но в свойственной нашей студии манере. Так, например, у нас появился «Вишневый сад», «Горе от ума», Пушкин. Как-то однажды даже возникла мысль обратиться к Достоевскому, к "Легенде о великом инквизиторе", но как ее воплотить, пока не очень понятно, я пока не решился и не знаю, решусь ли. Опять же, это заостряет вопрос о русской классике: что брать и о чем говорить. Просто веселить публику ради веселья у нас тоже есть возможность на новогодних капустниках и других праздниках, а в спектакле, я думаю, обязательно должна быть пища для мозгов. Вопросы зачем, из-за чего, почему. Как мне кажется, перед человеком всегда возникает некий хлыст, который бьёт его в случае равнодушия, нейтрального отношения к происходящему. Человек не должен быть похожим на молчалинский студень: я вроде бы идеален со всех точек зрения, но тем не менее, много разных знакомств имею, и к Софье Павловне по ночам хожу. Невозможно обойтись только одним серым цветом, обязательно должны быть цвета яркие, встречаться в поле зрения люди, готовые повести за собой, пусть даже спорные или негативные, но яркие. Не должно быть суррогата, ни в искусстве, ни в жизни.
А есть ещё "Театральная мастерская". Они делают «Пигмалиона», «Приключения Буратино». Это очень милые нейтральные вещицы, но я бы так никогда не работал, я бы никогда не потащил детей в эту игру в костюмы. Мы взаимодействуем, ходим к друг другу на спектакли.. Но это ещё и вопрос затрат. В том числе, и моих. Когда мы выпустили первый вариант «Каменного гостя», нашим конкурентом по «Хрустальной капельке» оказалась композиция про Пушкина. Лит монтаж в очень дорогих костюмах: фраки, кринолины, парики и прочее. Но там не было заметно души, было заметно, как дети переоделись в красивые костюмы и стали красивыми. А родителям это приятно. И мне это не близко. Я так не хочу. Этот театр меня не привлекает.
– Но у детей возникает возможность выбора, куда им идти. Как они выбирают?
– Очень просто. Куда лучше вписываются, то и выбирают.
– Ходите ли вы со своими студийцами все вместе в театры, на выставки и т.д.? Есть ли у Вас с детьми общий культурный контекст вне школы?
– Раньше ходили обязательно. А сейчас, насколько позволяют возможности. Возможности позволяют ходить куда-либо, в основном, только со своим классом. Но ведь и студия началась с физико-математических класса. Все, что происходит в школе или организуется в школе, является непосредственным продолжением того, что начинается на уроке. И когда я призываю детей к углубленно у изучению математики, я призываю их к тому, чтобы их решение было осознанным. А не потому, что туда пошли мои друзья или так хотят родители.
С классами мы ходим туда, куда нам хочется ходить вместе. Но в этом главное – не столько ходить, сколько делать то, что нам интересно делать вместе друг с другом. И не только на темы, связанные с театром или с математикой. Пока наш взаимный интерес друг к другу не ослабевает, наверное, стоит работать и стоит театром заниматься. Иногда хорошо бывает просто поговорить. Мы разговариваем о «Мцыри», например. С точки зрения того, что учительница литературы задала выучить отрывок. И с точки зрения того, о чем Лермонтов там написал. В принципе, мы с учительницей литературы говорим об одном и том же, но подводим к этому детей с разных сторон. Можно ли сказать о том, что я чувствую и думаю в связи с этим? И где и как мне это сделать комфортнее? В сочинении или на репетиции? А вообще так можно делать? Можно. Тогда я попробую высказать свои чувства по этому поводу.
Говорим о разном. О взаимоотношениях с родителями, о том, что происходит вокруг, исключая политику. О фильмах, о литературе, о музыке. Со временем это становится все сложнее. Я пытаюсь поделиться тем, что полюбил слушать со своих дремучих времён. Они мне доказывают, что эти же самые темы звучат и в музыке, более современной для них.
– Вы с ними соглашаетесь?
– Да. И это очень характерный прием. Попытаться найти общий язык опосредованно. Через рисование, через музыку, через поэзию. Потому что дискутировать напрямую для ребенка не совсем свойственно: я ещё точно не знаю, что это и как это называется, но хочу об этом высказаться, поэтому предложу некую ассоциацию.
И мне так с ними легче общаться: не объяснять что-то постоянно, а показать через аудио или видеоряд, через действие.
– Ходят ли в студию ученики, которые не очень ладят с математикой?
– Да, постоянно. Так получается, что большинство исполнителей главных ролей в спектаклях с точки зрения математики – двоечники и троечники. Но среди них много людей, которые хорошо танцуют, сочиняют стихи: актеров и музыкантов. И у них есть возможность состояться через творчество, через театр. Несмотря на то, что костяк изначально составлял физико-математический класс и пафос происходящему придавало именно это, сейчас к нам может примкнуть любой желающий, если ему это, правда, надо.
– А по какому принципу сейчас устроена студия? В каждом спектакле заняты ученики одного класса или одной параллели? Или подростки и юношество из разных классов?
– Основу все же по-прежнему составляет мой класс. А дальше – земля слухами полнится. И возраст в этом не является непреодолимой помехой. Было бы что сказать. Приходят и те, кто постарше, и те, кто помладше.
– Но Вы их лично к этому не призываете?
– Я не могу в сложившихся предлагаемых обстоятельствах призывать: «Ребята, приходите ко мне, я научу вас сценическому мастерству». В «Глобус» приходят те, кому есть о чем поговорить.
– Принимают ли родители какое-то участие в рождении студийных спектаклей? И если да, то какое?
– Да, и очень большое. Сначала, когда мы сидели на репетициях целыми вечерами, родители нас подкармливали – приносили сумки с продуктами. Сейчас очень помогают с техническим обеспечением: программки распечатать, сделать видеозапись спектакля с хорошим качеством звука и изображения. А главное – поддержкой: если ребенку это нравится, они дают возможность ему этим заниматься.
– Как взаимодействуют со студией выпускники – бывшие школьники, студенты и совсем взрослые люди?
– У нас есть общий чат, в котором мы переписываемся. Время от времени мы встречаемся, особенно 14 декабря, которое считается днём рождения театра.
В силу нынешних обстоятельств взрослый человек или студент, не имеющий отношение к школе, в школьных спектаклях принимать участие не может. Иначе они не будут засчитываться в отчётах, на конкурсах и на фестивалях. Даже я сейчас не могу в своих спектаклях играть, потому что я взрослый человек. Раньше это было возможным и были спектакли, в которых принимали участие и учителя в небольших ролях, а сейчас его просто не допустят к существованию. Ну, то есть он сможет существовать только как внутри школьное кулуарное дело.
– А для Вас принципиально важно всегда участвовать в конкурсах, или Вы все же можете рискнуть и создать кулуарный спектакль, если это очень интересно с творческой точки зрения?
– Я бы так не ставил вопрос. Мы все же стараемся придерживаться первоначального принципа: делать то, что нам интересно и радоваться тому, что это может быть интересно кому-нибудь ещё. Но предлагаемые обстоятельства требуют от нас участия в конкурсах. Хорошо, когда удается создать спектакль, который соответствует конкурсным требованиям, как это случилось с последней версией «Каменного гостя». А про «Горе от ума» нам сказали: «Вы могли бы выиграть, если бы дети у вас на сцене не выпивали»... Это не дети, а персонажи, но есть какие-то конкурсные условности. Можно обойтись и без этого, а можно и нет. Это не всегда удается. Случается по-разному. И приз на конкурсе или фестивале – это не самоцель. Но какую-то дополнительную мотивацию для детей это все же создаёт.
Как правило, все наши спектакли выходят на уровень округа и занимают призовые места. А дальше возникают противоречия. Так получилось с «Макбетом». На окружном уровне по этому поводу было совещание. Это спектакль, который стоит особняком. И не отметить его достоинства невозможно. Но для жюри кажется немыслимо, чтобы школьники в этом возрасте могли постичь смысл «Макбета». Поэтому на городской уровень он не пройдет. А это один из лучших наших спектаклей.
– Сколько раз примерно идёт каждая постановка?
– Сколько раз примерно идёт каждая постановка?
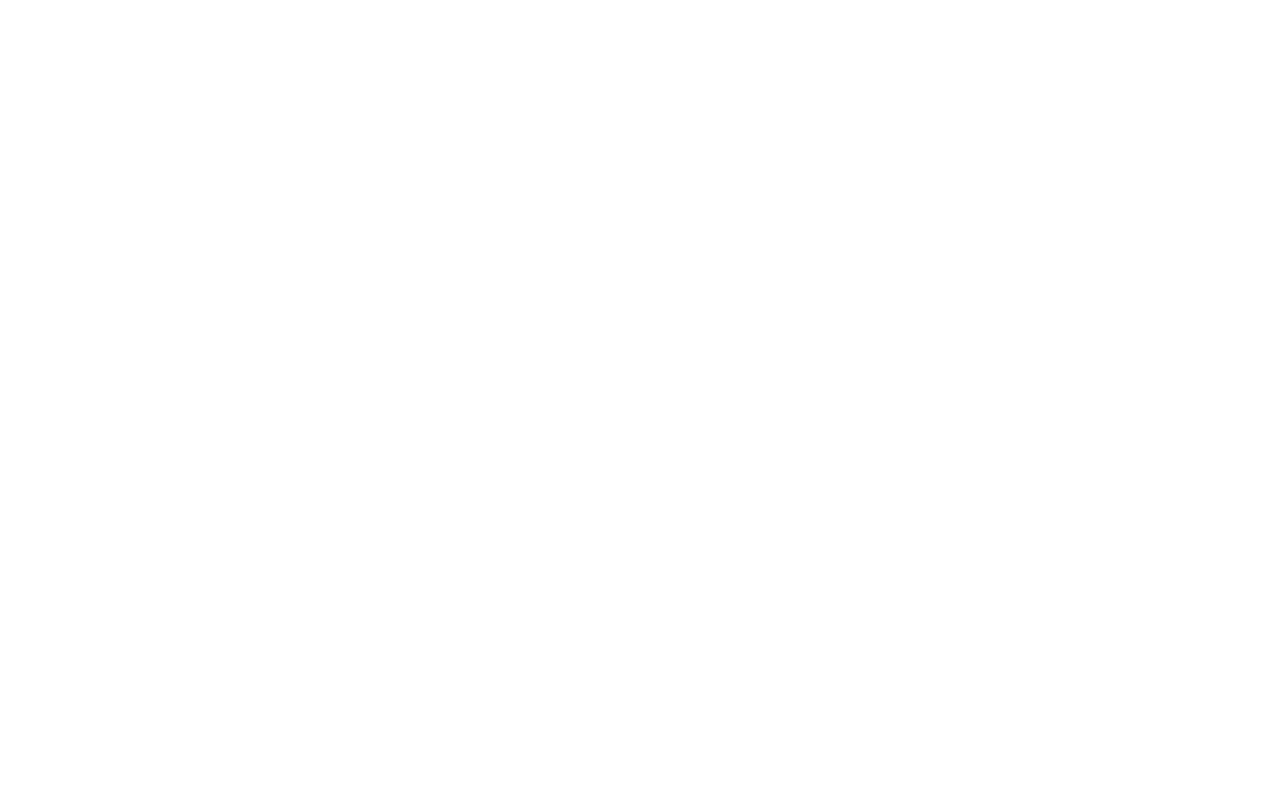
"Макбет" У. Шекспира" (2015) Макбет-Илья Прохоров, Банко- Руслан Мещеряков
– Четыре–пять. Мы стараемся за три-четыре дня, что спектакль идёт, полностью на нем сосредоточиться и достичь максимума выразительности той формы, на которую способны.
– Это четыре дня подряд?
– Да. Но сейчас из- за пандемии и дистанционки все устают, поэтому через день. Существуют даже категории зрителей, которые предпочитают тот или иной день: первый, когда все волнуются, второй, когда может произойти взлет или неожиданное ЧП, последующие, когда все участники спокойны и можно сосредоточиться на нюансах игры. Про каждый из показов можно рассказать огромное количество легенд. Они все очень разные.
– Как рождаются замыслы спектаклей, и как отдельные творческие идеи развиваются во время репетиций? Всё ли идёт от Вас, или у спектаклей есть соавторы?
Чем дальше, тем больше соавторства и тем больше к этому стремишься. С возрастом и опытом приходит понимание, что ты – не пуп земли. «Горе от ума» мы сочиняли вместе с двумя Чацкими и Софьей, «Тиля» – с исполнителями главных ролей и группой музыкантов. В пятом классе ещё можно настоять на определенных предлагаемых обстоятельствах и их строгом соблюдении, а когда дети взрослеют, это невозможно и неинтересно.
– Как это уживается с современным прагматизмом?
– Плохо. В современном мире доверия маловато. Очень много времени и сил тратится на то, чтобы ребят хотя бы немного раскрепостить и позволить им раскрыться. Только тогда начинаешь получать отдачу. Но пока они не раскрылись, приходится позволять им существовать так, как есть. Приходится пробовать другие формы работы. Но может быть, однажды все-таки всё вернётся.
У меня есть мечта, чтобы участие в работе театральной студии носило немного другое название – проект. Чтобы для ученика это было проектом, проектным обучением: создавал декорации к спектаклю – это твой проект, сочинял музыку – это твой проект, исполнил роль – проект. Но школа и округ пока на это не идут – проект, по их мнению, это либо отчётность, либо компиляция уже существующих фактов и мнений. И открытий мало.
– Как Ваш коллектив работает над ключевыми образами спектаклей и сценографией?
Очень по-разному. Обычно сначала я рассказываю о первоначальном замысле и предлагаю это нарисовать. Потом к этому присоединяются студенты, родители, педагоги. Все, кто заинтересуется. И тогда рождаются очень интересные идеи. Я могу только концепцию изложить – я не художник. Хотя один спектакль я все же оформил сам – «Гамлета».
– У Вас есть конкретный художник, с которым Вы сотрудничаете?
– Их много. «Троила и Крессиду» оформлял известный профессиональный художник Дмитрий Иконников, к сожалению, ныне уже покойный. Его дочка тогда училась у нас в седьмом классе. «Горе от ума» делали наши знакомые девочки, которые учились в художественном училище, «Тиля» мы делали вместе с исполнителем главной роли – Лёшей Головко. Иногда ученики сами делают. Все бывает очень по-разному.
– Кто Ваши основные зрители? Как Вы осуществляете с ними обратную связь? И как Вы думаете, что Ваши спектакли дают актёрам, а что зрителям?
– Это родители наших детей, семьи, живущие неподалеку, не имеющие прямого отношения к нашей школе, старшеклассники, которые сами не решаются принимать участие в спектаклях, но интересуются тем, что происходит, студенты. Малыши, которые сначала просто приходили посидеть, пошуршать фантиками, а потом увлекались и в начале следующего года у них возникало желание стать артистами.
– А малыши какого возраста?
– Шестой – седьмой класс. Иногда даже пятый приходит вместе с родителями. Спектакль большой, начинается в 19 часов, поэтому им можно приходить только вместе с родителями. Кто только не приходит. Я смею надеяться, что есть группа людей, подростков и взрослых, для которых те вопросы, которыми «Глобус» озадачивается, также важны, как и для нас. Был такой момент, когда мы делали « Антония и Клеопатру», когда был сильный эмоциональный накал и ребята очень здорово играли. Пришли учительницы смотреть спектакль, все в макияже, торжественно сели в первый ряд. Подросток, играющий Антония, собирается покончить жизнь самоубийством и начинает говорить о любви. Я стараюсь смотреть только на сцену, но мои коллеги в это время напоминают Пьеро после дождя: кто-то одинок, кто-то разведен, кто-то вспоминает о настоящей любви и первом чувстве. И это их приводит в неимоверное состояние. Потом даже некоторые подходили и просили фотографии со сценами из спектакля на память. Они испытали сильный катарсис.
– Это четыре дня подряд?
– Да. Но сейчас из- за пандемии и дистанционки все устают, поэтому через день. Существуют даже категории зрителей, которые предпочитают тот или иной день: первый, когда все волнуются, второй, когда может произойти взлет или неожиданное ЧП, последующие, когда все участники спокойны и можно сосредоточиться на нюансах игры. Про каждый из показов можно рассказать огромное количество легенд. Они все очень разные.
– Как рождаются замыслы спектаклей, и как отдельные творческие идеи развиваются во время репетиций? Всё ли идёт от Вас, или у спектаклей есть соавторы?
Чем дальше, тем больше соавторства и тем больше к этому стремишься. С возрастом и опытом приходит понимание, что ты – не пуп земли. «Горе от ума» мы сочиняли вместе с двумя Чацкими и Софьей, «Тиля» – с исполнителями главных ролей и группой музыкантов. В пятом классе ещё можно настоять на определенных предлагаемых обстоятельствах и их строгом соблюдении, а когда дети взрослеют, это невозможно и неинтересно.
– Как это уживается с современным прагматизмом?
– Плохо. В современном мире доверия маловато. Очень много времени и сил тратится на то, чтобы ребят хотя бы немного раскрепостить и позволить им раскрыться. Только тогда начинаешь получать отдачу. Но пока они не раскрылись, приходится позволять им существовать так, как есть. Приходится пробовать другие формы работы. Но может быть, однажды все-таки всё вернётся.
У меня есть мечта, чтобы участие в работе театральной студии носило немного другое название – проект. Чтобы для ученика это было проектом, проектным обучением: создавал декорации к спектаклю – это твой проект, сочинял музыку – это твой проект, исполнил роль – проект. Но школа и округ пока на это не идут – проект, по их мнению, это либо отчётность, либо компиляция уже существующих фактов и мнений. И открытий мало.
– Как Ваш коллектив работает над ключевыми образами спектаклей и сценографией?
Очень по-разному. Обычно сначала я рассказываю о первоначальном замысле и предлагаю это нарисовать. Потом к этому присоединяются студенты, родители, педагоги. Все, кто заинтересуется. И тогда рождаются очень интересные идеи. Я могу только концепцию изложить – я не художник. Хотя один спектакль я все же оформил сам – «Гамлета».
– У Вас есть конкретный художник, с которым Вы сотрудничаете?
– Их много. «Троила и Крессиду» оформлял известный профессиональный художник Дмитрий Иконников, к сожалению, ныне уже покойный. Его дочка тогда училась у нас в седьмом классе. «Горе от ума» делали наши знакомые девочки, которые учились в художественном училище, «Тиля» мы делали вместе с исполнителем главной роли – Лёшей Головко. Иногда ученики сами делают. Все бывает очень по-разному.
– Кто Ваши основные зрители? Как Вы осуществляете с ними обратную связь? И как Вы думаете, что Ваши спектакли дают актёрам, а что зрителям?
– Это родители наших детей, семьи, живущие неподалеку, не имеющие прямого отношения к нашей школе, старшеклассники, которые сами не решаются принимать участие в спектаклях, но интересуются тем, что происходит, студенты. Малыши, которые сначала просто приходили посидеть, пошуршать фантиками, а потом увлекались и в начале следующего года у них возникало желание стать артистами.
– А малыши какого возраста?
– Шестой – седьмой класс. Иногда даже пятый приходит вместе с родителями. Спектакль большой, начинается в 19 часов, поэтому им можно приходить только вместе с родителями. Кто только не приходит. Я смею надеяться, что есть группа людей, подростков и взрослых, для которых те вопросы, которыми «Глобус» озадачивается, также важны, как и для нас. Был такой момент, когда мы делали « Антония и Клеопатру», когда был сильный эмоциональный накал и ребята очень здорово играли. Пришли учительницы смотреть спектакль, все в макияже, торжественно сели в первый ряд. Подросток, играющий Антония, собирается покончить жизнь самоубийством и начинает говорить о любви. Я стараюсь смотреть только на сцену, но мои коллеги в это время напоминают Пьеро после дождя: кто-то одинок, кто-то разведен, кто-то вспоминает о настоящей любви и первом чувстве. И это их приводит в неимоверное состояние. Потом даже некоторые подходили и просили фотографии со сценами из спектакля на память. Они испытали сильный катарсис.
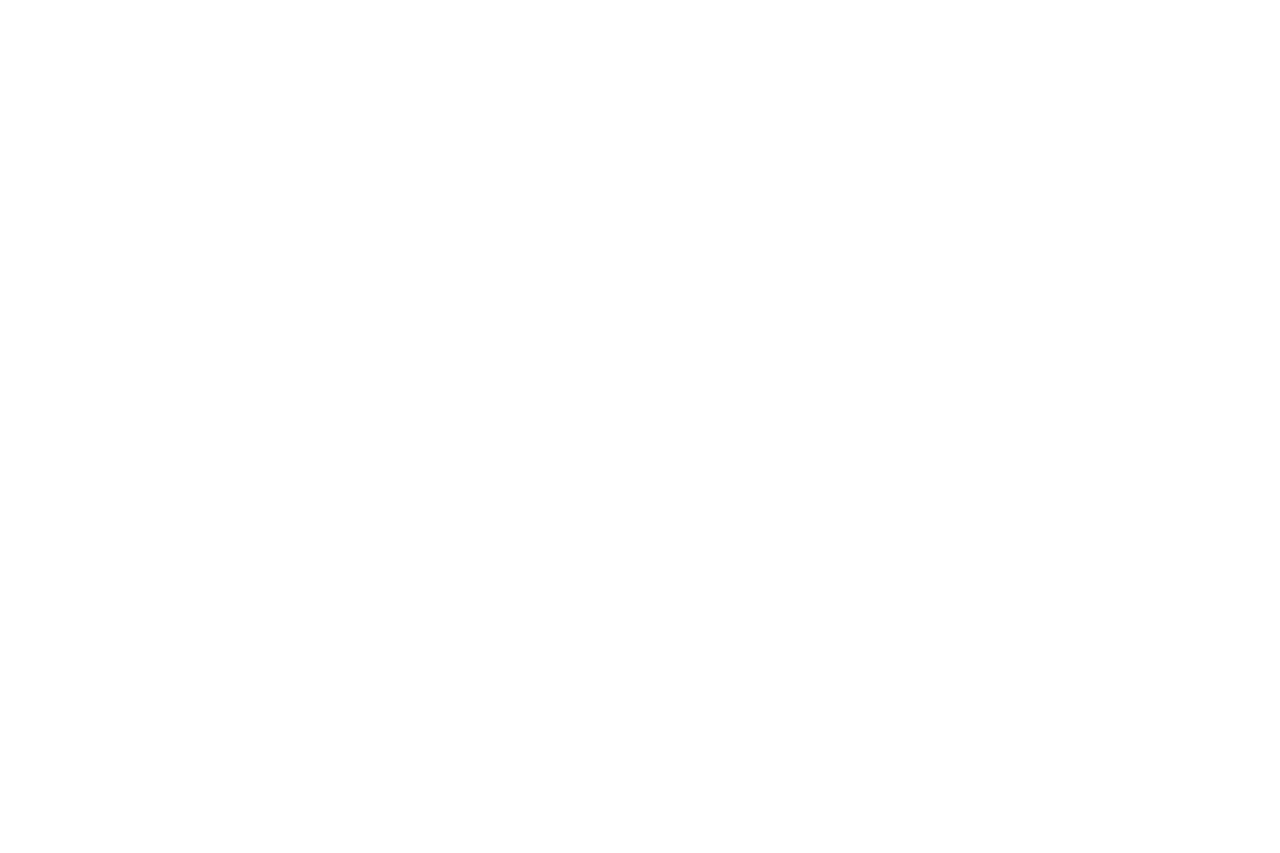
"Антоний и Клеопатра" У. Шекспира (2013) сцена из спектакля
И раньше я даже не мог предположить, что со взрослыми людьми, пришедшими на спектакль школьного театра, подобное может произойти. Я думаю, что у «Глобуса» всегда найдутся заинтересованные зрители. Если нет, он прекратит свое существование. Но я совершенно точно уверен, что невозможно в этой жизни обойтись только стримами и онлайн-трансляциями. И живой театр людям необходим, чем дальше, тем больше. Возникает все большая необходимость поделиться теми противоречиями, которые накапливаются у людей и их пугают. Всегда у человека найдется такой сосуд, который необходимо заполнить. И никакими сублимациями его не наполнить, только чем-то подлинным. И чем дальше, тем это нужнее.
– Это зрители Вам говорят или Вы так думаете?
– Я это вижу. Они реагируют взрывно, непредсказуемо. И ошибиться в этом невозможно. Человек сейчас очень мало знает о том, какова его основная цель, какова задача, совершает много инерционного. Например, при выборе будущей специальности. Раньше многие в восьмом классе уже примерно определялись, а сейчас идут в тот институт, куда мама сказала. Почему: потому что выбор очень большой или потому что воля парализована, непонятно. Может быть потому, что человека вовремя никто не поставил перед вопросом, предполагающим выбор, и он изо всех сил старается никого не обидеть, ни с кем не поссориться, чтобы все было хорошо.
– Вы считаете, что такая потребность выбора должна быть у людей обязательно или ее может и не быть?
– Наверное, можно. И в этом нет ничего страшного. Мир так устроен, что человек может очень долго в этом существовать. Но когда-то вдруг жизнь его неожиданно стукнет и возникнет проблема выбора.
– Интересны ли нынешним студийцам видеозаписи спектаклей прошлых лет? И важно ли Вам, как руководителю, чтобы ребятам было интересно творческое прошлое студии?
– Конечно. Все спектакли пересматриваются по нескольку раз. Некоторые приходят в театр после этих просмотров, а некоторые, наоборот, уходят.
– Происходят ли у вас обсуждения после спектаклей?
– Обязательно. После каждого спектакля, после всех цветов и поцелуйчиков сидим и разговариваем.
– А со зрителями?
– Со зрителями происходит такая тридцатиминутка в диалоге. Чаще всего, зрители, приходящие к нам на спектакль уже знают, что дело не в благодарности, которая нам все же очень приятна, а в том, что они поняли и что не поняли.
– Наш постоянный автор и большой друг Александр Демахин в своём интервью сказал, что его образ школьного театра сложился под Вашим влиянием. А кого Вы считаете своими учителями и вдохновителями?
– Я не могу сказать, что кто-то конкретно меня всему научил, но я могу назвать имена, благодаря которым я заболел театром. В первую очередь, это Марк Захаров. Наверное, немного найдется среди его спектаклей таких, что я не видел. А некоторые даже пересматривал множество раз. Тарковский меня очень вдохновляет. Пожалуй, это основное. Мне очень нравится Туминас, я не могу назвать его учителем, потому что мы пересеклись с ним слишком поздно, но все, что он делает, мне очень близко. Если я стоял хотя бы приблизительно рядом с уровнем его таланта, то, наверное, делал бы, что- то похожее на то, что делает он.
– Это зрители Вам говорят или Вы так думаете?
– Я это вижу. Они реагируют взрывно, непредсказуемо. И ошибиться в этом невозможно. Человек сейчас очень мало знает о том, какова его основная цель, какова задача, совершает много инерционного. Например, при выборе будущей специальности. Раньше многие в восьмом классе уже примерно определялись, а сейчас идут в тот институт, куда мама сказала. Почему: потому что выбор очень большой или потому что воля парализована, непонятно. Может быть потому, что человека вовремя никто не поставил перед вопросом, предполагающим выбор, и он изо всех сил старается никого не обидеть, ни с кем не поссориться, чтобы все было хорошо.
– Вы считаете, что такая потребность выбора должна быть у людей обязательно или ее может и не быть?
– Наверное, можно. И в этом нет ничего страшного. Мир так устроен, что человек может очень долго в этом существовать. Но когда-то вдруг жизнь его неожиданно стукнет и возникнет проблема выбора.
– Интересны ли нынешним студийцам видеозаписи спектаклей прошлых лет? И важно ли Вам, как руководителю, чтобы ребятам было интересно творческое прошлое студии?
– Конечно. Все спектакли пересматриваются по нескольку раз. Некоторые приходят в театр после этих просмотров, а некоторые, наоборот, уходят.
– Происходят ли у вас обсуждения после спектаклей?
– Обязательно. После каждого спектакля, после всех цветов и поцелуйчиков сидим и разговариваем.
– А со зрителями?
– Со зрителями происходит такая тридцатиминутка в диалоге. Чаще всего, зрители, приходящие к нам на спектакль уже знают, что дело не в благодарности, которая нам все же очень приятна, а в том, что они поняли и что не поняли.
– Наш постоянный автор и большой друг Александр Демахин в своём интервью сказал, что его образ школьного театра сложился под Вашим влиянием. А кого Вы считаете своими учителями и вдохновителями?
– Я не могу сказать, что кто-то конкретно меня всему научил, но я могу назвать имена, благодаря которым я заболел театром. В первую очередь, это Марк Захаров. Наверное, немного найдется среди его спектаклей таких, что я не видел. А некоторые даже пересматривал множество раз. Тарковский меня очень вдохновляет. Пожалуй, это основное. Мне очень нравится Туминас, я не могу назвать его учителем, потому что мы пересеклись с ним слишком поздно, но все, что он делает, мне очень близко. Если я стоял хотя бы приблизительно рядом с уровнем его таланта, то, наверное, делал бы, что- то похожее на то, что делает он.
Если Вам понравился материал, Вы можете поделиться им, нажав на кнопку внизу
