О.А.Соломонова,
руководитель театра-студии «Алые паруса»
г. Киров
руководитель театра-студии «Алые паруса»
г. Киров
Опыт освоения метода С.В.Клубкова
Мы в соцсетях
«Вспахали почву – кладу зернышко.
Жопой гвозди повыдергивали – тогда даю зерно».
Из конспекта лекции С.В.Клубкова, июль 2004 г.
Впервые я познакомилась с авторской методикой Сергея Вячеславовича Клубкова более 20 лет назад, прочитав книгу «Театр, где играют дети» (Театр…, 2001; эта замечательная книга заслуживает того, чтобы быть стать настольной для всех руководителей детских театральных коллективов).
На тот момент я была уже не начинающим режиссером, но именно в детском коллективе начала работать относительно недавно. У меня возникало много вопросов, и практически каждая глава книги отвечала на них. Естественно, я сразу стала применять прочитанное в своей практике. Психофизический тренинг С.В.Клубкова содержал совершенно незнакомые мне ранее упражнения,
На тот момент я была уже не начинающим режиссером, но именно в детском коллективе начала работать относительно недавно. У меня возникало много вопросов, и практически каждая глава книги отвечала на них. Естественно, я сразу стала применять прочитанное в своей практике. Психофизический тренинг С.В.Клубкова содержал совершенно незнакомые мне ранее упражнения,
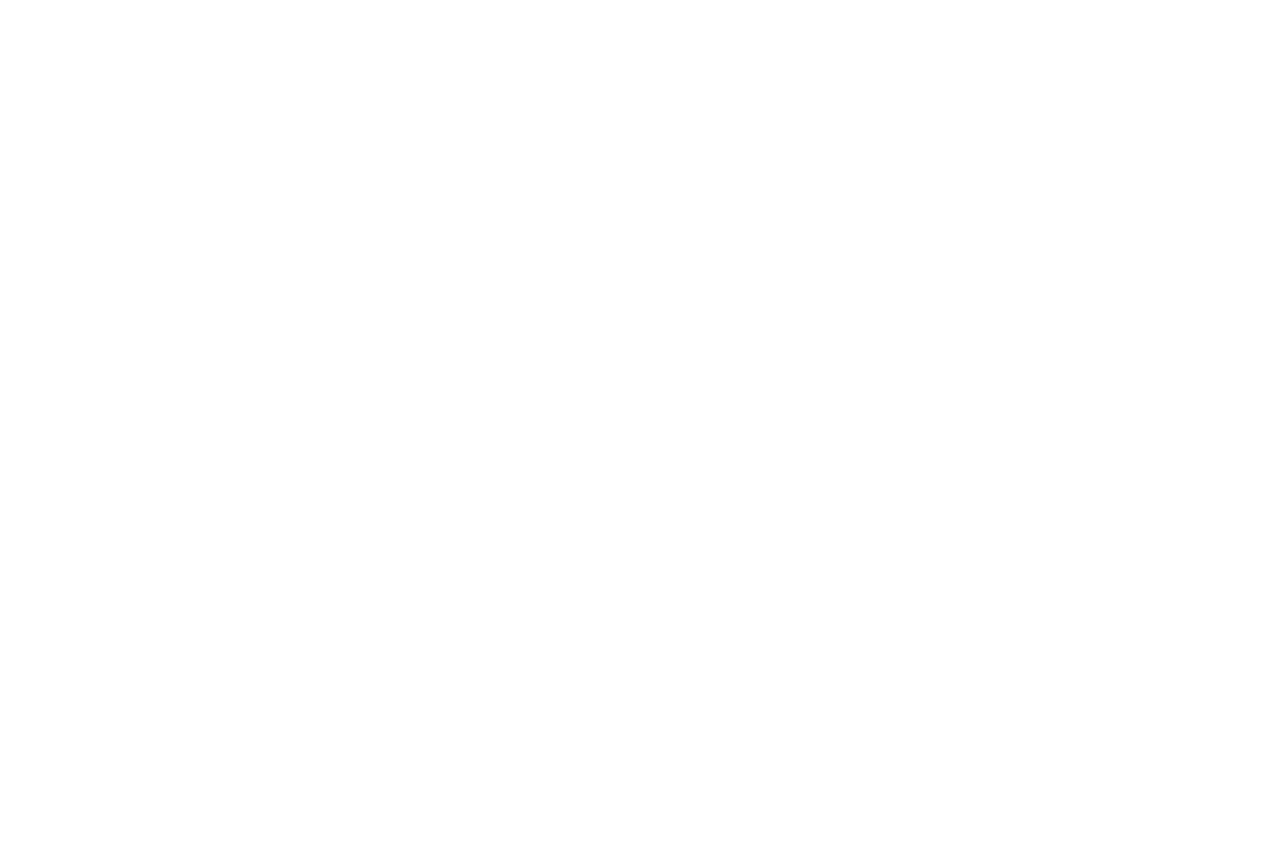
Ольга Соломонова
выстроенные определенным образом, складывающиеся в четкую методическую систему. Применяя их на практике, я увидела, как быстро раскрепощаются дети; с них как будто спадала скорлупа, и тело их становилось мягким и пластичным. А с каким желанием и интересом они выполняли новые задания! Первоначально делая упражнения с закрытыми глазами (как предлагалось в методике), воспитанники очень быстро понимали суть процесса и работали не «на публику», «для себя», сосредотачивались на собственных ощущениях и фантазиях.
Приведу в качестве примера отзыв одной из воспитанниц: «Все происходило в кабинете на малой сцене. Горели только два прожектора; от них было очень тепло. Мне дали задание выйти на сцену и изобразить под музыку рождение неведомого людям существа. Благодаря тренингам, я расслабилась, и вышло так, что не тело слушалось меня, а я его. В эти моменты я испытывала большой душевный подъем, даже не видела людей в зале, сосредоточившись только на своих ощущениях и сливаясь с музыкой, словно вместо зала была четвертая стена». Но, несмотря на успехи детей, меня волновали некоторые вопросы, ответы на которые я в книге не находила (и много позже поняла, что они там на самом деле были): почему обязательно последовательно? почему очень медленно и долго? долго – это сколько? И так далее.
Через пару лет я попала на театральный фестиваль в г. Глазове, где специалисты детского театра А.В.Луценко и А.Л.Федоров проводили семинар по методу С.В.Клубкова. Многие упражнения, задания, особенно разминочные, были модифицированы. Стало понятно, что можно все усложнять, менять в зависимости от целей, возраста, состава, даже настроения воспитанников. Но длинные упражнения (например, «Эволюцию») нам не показали, и вопросы оставались.
На фестивале я познакомилась с А.Б.Никитиной и узнала от нее, что в Московском государственном университете культуры и искусств (МГУКИ) есть курсы профессиональной переподготовки по программе «режиссер-педагог». Имея два профессиональных режиссерских образования – среднее специальное (Архангельское культурно-просветительское училище, 1986 г.) и высшее (Санкт-Петербургская государственная академия культуры, 1995г.), в 2004 году я вновь решила учиться – учиться у С.В.Клубкова и Александры Борисовны, авторов такой важной для меня книги.
Курсы МГУКИ были организованы Автономной некоммерческой организацией «Пролог» с целью развития детского театрального движения в России. Двухгодичная образовательная программа подготовки кадров для театральной работы с детьми опиралась на авторские методики кандидата искусствоведческих наук, профессора МГУКИ С.В.Клубкова, доцента кафедры эстетического образования и культурологии Московского института открытого образования (МИОО), кандидата искусствоведения А.Б.Никитиной.
Это, действительно, была уникальная учеба. Каждый из нас прожил сам «психофизический тренинг» мастера, сделал свои открытия и постиг то «ноу-хау», которое невозможно усвоить из литературы.
Сергей Вячеславович был мастером нашего курса, он читал нам лекции, приходил на генеральные репетиции и показы готовых работ, делал разборы. У меня, к сожалению, не было такого ежедневного личного контакта с Сергеем Вячеславовичем, как у студентов его дневных курсов во МГУКИ, но влияние на мое ощущение и понимание профессии он оказал сильное.
Ежедневно с нами работала команда педагогов, среди них ученики Сергея Вячеславовича: Елена Игоревна Косинец, Михаил Быков.
После каждой сессии, по каждому предмету мы получали подробные задания по применению освоенных нами методик в своих коллективах. Каждый наш шаг сопровождали педагоги, даже на расстоянии. Мы делали видеозаписи (занятий, тренингов, разминок, репетиций, обсуждений, рефлексий), отправляли кассеты педагогам, те, в свою очередь, делали очень подробные разборы нашей работы. У нас была возможность между сессиями исправлять ошибки и неточности, закреплять все положительные моменты и двигаться дальше. На курсах к каждому из нас был индивидуальный подход, разборы работ шли по нескольку часов, каждый педагог высказывался про каждого студента, такие разборы мы назвали «Гамбургский счет». «Полюбите свои ошибки больше, чем успехи, – говорили нам педагоги, – от ошибок есть куда стремиться, куда расти». Такого сопровождения студентов я не встречала ранее нигде. За эти два года я изменилась, как человек, режиссер и педагог. Мне запомнились слова воспитанницы, которая к тому времени занималась в нашей студии уже шестой год: «У нас, конечно, и раньше было интересно в театре, но сейчас это – один сплошной восторг». Так непосредственно она подтвердила мысль А.Дистервега о том, что педагог «лишь до тех пор способен на самом деле воспитывать и образовывать, пока сам работает над своим собственным воспитанием и образованием» (Дистервег, 1956, С. 74).
Это образование давалось мне особенно тяжело.
Тренинг С.В.Клубкова подробно описан в книгах, доступны видеозаписи, поэтому я не буду подробно останавливаться на каждом из упражнений, но какие-то моменты проживания тренинга, а также лекции мастера, его слова оказали на меня особое влияние, поэтому я подробнее остановлюсь именно на своих ощущениях.
Приведу в качестве примера отзыв одной из воспитанниц: «Все происходило в кабинете на малой сцене. Горели только два прожектора; от них было очень тепло. Мне дали задание выйти на сцену и изобразить под музыку рождение неведомого людям существа. Благодаря тренингам, я расслабилась, и вышло так, что не тело слушалось меня, а я его. В эти моменты я испытывала большой душевный подъем, даже не видела людей в зале, сосредоточившись только на своих ощущениях и сливаясь с музыкой, словно вместо зала была четвертая стена». Но, несмотря на успехи детей, меня волновали некоторые вопросы, ответы на которые я в книге не находила (и много позже поняла, что они там на самом деле были): почему обязательно последовательно? почему очень медленно и долго? долго – это сколько? И так далее.
Через пару лет я попала на театральный фестиваль в г. Глазове, где специалисты детского театра А.В.Луценко и А.Л.Федоров проводили семинар по методу С.В.Клубкова. Многие упражнения, задания, особенно разминочные, были модифицированы. Стало понятно, что можно все усложнять, менять в зависимости от целей, возраста, состава, даже настроения воспитанников. Но длинные упражнения (например, «Эволюцию») нам не показали, и вопросы оставались.
На фестивале я познакомилась с А.Б.Никитиной и узнала от нее, что в Московском государственном университете культуры и искусств (МГУКИ) есть курсы профессиональной переподготовки по программе «режиссер-педагог». Имея два профессиональных режиссерских образования – среднее специальное (Архангельское культурно-просветительское училище, 1986 г.) и высшее (Санкт-Петербургская государственная академия культуры, 1995г.), в 2004 году я вновь решила учиться – учиться у С.В.Клубкова и Александры Борисовны, авторов такой важной для меня книги.
Курсы МГУКИ были организованы Автономной некоммерческой организацией «Пролог» с целью развития детского театрального движения в России. Двухгодичная образовательная программа подготовки кадров для театральной работы с детьми опиралась на авторские методики кандидата искусствоведческих наук, профессора МГУКИ С.В.Клубкова, доцента кафедры эстетического образования и культурологии Московского института открытого образования (МИОО), кандидата искусствоведения А.Б.Никитиной.
Это, действительно, была уникальная учеба. Каждый из нас прожил сам «психофизический тренинг» мастера, сделал свои открытия и постиг то «ноу-хау», которое невозможно усвоить из литературы.
Сергей Вячеславович был мастером нашего курса, он читал нам лекции, приходил на генеральные репетиции и показы готовых работ, делал разборы. У меня, к сожалению, не было такого ежедневного личного контакта с Сергеем Вячеславовичем, как у студентов его дневных курсов во МГУКИ, но влияние на мое ощущение и понимание профессии он оказал сильное.
Ежедневно с нами работала команда педагогов, среди них ученики Сергея Вячеславовича: Елена Игоревна Косинец, Михаил Быков.
После каждой сессии, по каждому предмету мы получали подробные задания по применению освоенных нами методик в своих коллективах. Каждый наш шаг сопровождали педагоги, даже на расстоянии. Мы делали видеозаписи (занятий, тренингов, разминок, репетиций, обсуждений, рефлексий), отправляли кассеты педагогам, те, в свою очередь, делали очень подробные разборы нашей работы. У нас была возможность между сессиями исправлять ошибки и неточности, закреплять все положительные моменты и двигаться дальше. На курсах к каждому из нас был индивидуальный подход, разборы работ шли по нескольку часов, каждый педагог высказывался про каждого студента, такие разборы мы назвали «Гамбургский счет». «Полюбите свои ошибки больше, чем успехи, – говорили нам педагоги, – от ошибок есть куда стремиться, куда расти». Такого сопровождения студентов я не встречала ранее нигде. За эти два года я изменилась, как человек, режиссер и педагог. Мне запомнились слова воспитанницы, которая к тому времени занималась в нашей студии уже шестой год: «У нас, конечно, и раньше было интересно в театре, но сейчас это – один сплошной восторг». Так непосредственно она подтвердила мысль А.Дистервега о том, что педагог «лишь до тех пор способен на самом деле воспитывать и образовывать, пока сам работает над своим собственным воспитанием и образованием» (Дистервег, 1956, С. 74).
Это образование давалось мне особенно тяжело.
Тренинг С.В.Клубкова подробно описан в книгах, доступны видеозаписи, поэтому я не буду подробно останавливаться на каждом из упражнений, но какие-то моменты проживания тренинга, а также лекции мастера, его слова оказали на меня особое влияние, поэтому я подробнее остановлюсь именно на своих ощущениях.
Первый день тренинга, первое упражнение «Поймать хлопок». Хлопаем, хлопаем, хлопаем… непонимание, негодование…
Тут важно сказать, что содержанием психофизического тренинга являются элементы «системы» К.С.Станиславского: внимание, воображение, освобождение мышц, общение и т.д. Выполняя любое упражнение, включаем в работу все элементы. Например, чтобы «разогреть» внимание (самый простой элемент системы, т.к. внимание поддается человеческой воле), мы (группа) ловим «хлопок» педагога. Не просто хлопнуть вслед за ведущим, а поймать на лету (подключаем воображение), поймать как мячик (пулю, стрелу, конфетку и т.д.), а для этого необходимо расслабиться, снять ненужное напряжение, мышечные зажимы. Педагоги долго добивались от нас неформального выполнения упражнения. Обманывали, делая несколько хлопков подряд, а затем резкую паузу, и, если мы не поддавались инерции, значит – были подлинно внимательны. В идеале, выполняя это упражнение, группа должна действовать как один человек. Получилось поймать – значит, уже запущен в работу элемент общение, ведь мы взаимодействуем, мы – одно целое. У нас получается не сразу, ладошки от хлопков горят. Вначале больно, потом перестаешь чувствовать или замечать неприятные ощущения. Главное – поймать хлопок, не сбиться, успеть вместе со всеми; ничто не способно тебя отвлечь.
Это упражнение одним из первых подводило нас к пониманию «тратности». Не жалеть себя. Выкладываться на все сто процентов. «Не левой пяткой в полноги, а по максимуму тратьтесь, – говорили педагоги, – отдавайте энергию, и она вернется к вам в большем объеме». И действительно, через некоторое время мы перестали уставать, как будто открылись «запасные клапаны»; столько силы, столько энергии, столько желания работать!
«“Тратность” – это закон, – говорил нам С.В.Клубков, – тратьте себя, свою энергию, эмоции, мысли. На холодной сковороде ничего не приготовишь. Что делает солнышко? Тратится на нас! Каждый спектакль, каждая роль должны стать источником энергии, энергии жизни».Действительное понимание понятия «тратности» далось нам кровью и потом, часами проживания в тренинге, в череде сложных упражнений.
Я постигала процесс через большое собственное сопротивление: мешали мозги, мешали вопросы, засевшие там: «что делать?», «чего от меня хотят?», «как надо действовать?». А самое ужасное – ничего не объясняют. После упражнений предлагают высказаться, а что говорить, когда ты ничего не понимаешь. Тебя не оценивают, не говорят, хорошо или плохо, так или не так. Ну, моменты рождения, осознания себя, это еще понятно, особенно если ты появился «фантастическим существом», «несуществующим микробом». В этих упражнениях снимались все запреты, все шаблоны. Как надо, никто не знает. Ведь то, что я создала, нигде не существует, оно – только в моем воображении, все впервые! И только я, здесь и сейчас, могу постичь логику действия этого «небывалого существа». Важно действовать. Нет границ. Полная свобода, только действуй в вымысле. Кажется, все понятно. Но что делать, когда упражнение длится часами? Когда из меня должен получиться кто-то конкретный на определенном этапе эволюции? Летаю, машу крылышками, мол, я – бабочка, и думаю: «Господи, когда все закончится? Если бы знала, что здесь будет, захватила бы с собой энциклопедию по биологии. Прочитала бы, что делать и как!». А впереди еще много эволюционных ступеней, которые мы должны «прожить». В общем, я мало что воспринимала. Смотрела и не видела, слушала и не слышала, боялась что-нибудь сделать не так. А педагоги, как будто читая мои мысли, повторяли: «Самый мощный путь обучения – это пропустить все через себя; сначала сделай, а потом поймешь и спросишь. Не “Господи, за что это мне?”, а “Господи, для чего это мне?”» (в полном соответствии с тезисом С.В.Клубкова, вынесенным в эпиграф).
Прорыв пришелся на упражнение «Песочница». Как я сейчас понимаю, все принципы до меня каким-то образом дошли. Может, потому, что когда-то была ребенком, как и все участники тренинга. Не знаю. Время пролетело незаметно. Во время упражнения хотелось не выходить из детства: возиться в песке, лепить, дарить, убегать, прятаться, смеяться и плакать – только не «домой». На обсуждении мы готовы были долго вспоминать прожитый «детьми» день. На самом деле мы просто подлинно, логично, целенаправленно, результативно действовали в предлагаемых обстоятельствах здесь, сейчас и впервые, а значит – творили. В «Песочнице» ко мне пришло вдохновение. Я испытывала новые необычные ощущения в себе и что-то новое в окружающих людях и в мире. Этот принцип «здесь, сейчас и впервые» лично для меня был тем «ноу-хау», который я не могла понять из литературы, а осознала только на тренинге. Здесь он стал игрой, удовольствием, создалась та атмосфера творчества, радости, при которой студенты стали включаться в процесс. Сложилась атмосфера, при которой нас не надо было заставлять, подстегивать; мы сами готовы были трудиться до ночи, потому что получали наслаждение от процесса. Сергей Вячеславович говорил: «Не бывает искусства вне радости! Рожайте, кричите, но в радость». Мы поверили в себя, как будто про нас, играющих в «Песочнице», написал К.С.Станиславский: «Достойно удивления, как долго могут дети удерживать свое внимание на одном объекте и действии! <...> Иллюзия подлинной жизни, создаваемая детьми в игре, так сильна, что им трудно вернуться от нее к действительности. Они создают себе радость из всего, что попадается под руки. Стоит им сказать себе “как будто бы”, и вымысел уже живет в них. Детское “как будто бы” куда сильнее нашего магического “если бы”. <...> Вот когда вы дойдете в искусстве до правды и веры детей в их играх, тогда вы сможете стать великими артистами» (Станиславский, 1989, С. 228-229).
С упражнения «Песочница» я не мозгами (они, наконец, отключились), а всем телом, всеми органами чувств, всеми элементами «системы» постигала процесс. Сняты запреты. Можно все – нельзя бездействовать; если ты действуешь, ты – существуешь.
«Никогда не ври и ничего не бойся», – говорил своим ученикам много веков назад Заратустра. «Никогда не ври и ничего не бойся – это закон», – так начинал свои лекции Сергей Вячеславович.
На первой сессии получаем задание: написать, придумать темы музыкальных этюдов. Очень важно, чтобы эти темы лично волновали каждого, «задевали за живое». Оказалось, высказаться очень трудно. Страшно. Не знаю, как это было у других, но все мое существо «сопротивлялось»: зачем я буду о своем, о наболевшем всем рассказывать. Но начинать с правды принципиально важно. «Любая ложь начинается со лжи самому себе, – говорил наш мастер, – услышать свой собственный голос, поверить себе и высказаться. Пусть на максимуме возможностей, через слезы, через боль, но честно. Только искренность может родить правду». Благодаря работе над этюдами, я осознала процесс поиска своей темы, темы, которая меня волнует, темы, о которой я не могу молчать. Сергей Вячеславович всячески вдохновлял нас: «Ставить спектакль о том, что сегодня насморк, а завтра глисты – не этично! Если вам Бог дал возможность высказать себя, начинайте с правды, выражая себя – выражаете людей! Медленно и тихо рождаете правду; если идете на результат, сразу – ложь. Начало правды, как зачатие. Любое творчество – это как твой ребенок; глаза должны гореть, как у детей». Вдохновил. С помощью педагогов – зачали. С трудом, со слезами, с отчаяньем – родили. Экзамен: показы «музыкальных этюдов». Над каждым этюдом зрители и плачут, и смеются, потому что темы задевают каждого, потому что, как говорил мастер, «искусство всегда личностно и всегда общечеловечно».
После той сессии, на которой мы прожили весь психофизический тренинг С.В.Клубкова, многие вопросы исчезли. Практическое, наглядное подтверждение получили следующие его мысли: «Для нашего подсознания нет разницы – происходит действие в реальной жизни или в сфере воображения. Можно не ждать, пока жизнь предложит ту или иную сложную жизненную ситуацию, а смоделировать ее в игровой форме, прожить в более щадящих лабораторных условиях. Но прожить честно, не изобразить. Тогда тренинг дает возможность психологической реабилитации или стремительного развития личности за счет быстрого прохождения определенного участка пути к главной жизненной цели, ускоренного воображением и концентрацией всех возможностей организма» (Клубков, 2001, С. 82-83).
Пришло действенное осознание практичности многих методологических положений, которые ранее представлялись мне чисто теоретическими, не имеющими отношения к моей ежедневной работе. Возникло ощущение, что я стала свободнее не только физически, но и психологически, и личностно. Поняла что-то новое о себе. Поняла, что многие вещи можно постичь не разумом, а телом и душой, освоить всеми органами чувств и подсознанием. Для меня важно, что психофизический тренинг С.В.Клубкова является естественным продолжением «системы» К.С.Станиславского. Именно после тренинга я совершенно по-новому восприняла давно известную мне «Работу актера над собой». Для меня многое прояснилось в содержании и методах работы режиссера-педагога, причем, по ощущению, не медленным приращением, а скачкообразно, с выходом на качественно новый уровень (и это отмечали воспитанники студии, имевшие возможность сравнивать «до» и «после»).
И если, как писал К.С. Станиславский, «основная цель сценического искусства <…> заключается в создании и жизни человеческого духа» (Станиславский, 1989, С. 62), то целью педагога, режиссера детского театра должно являться не столько обучение актеров, сколько воспитание личности, развитие «духа человеческого» этой личности. Трудно соответствовать, не всегда получается, делаешь ошибки, исправляешься, падаешь и поднимаешься, идешь дальше и наслаждаешься процессом познания себя и других, процессом творчества.
Закончу словами Сергея Вячеславовича Клубкова: «тренинг создавался для профессиональной подготовки актеров. Но если мы рассматриваем театр, как демонстрационную модель мира, если театр – это путь обучения человечества высшим законам бытия, то каким должен быть человек, выходящий на сцену?! Подготовка актера для такого Театра – это подготовка Человека» (Клубков, 2001, С. 71).
Тут важно сказать, что содержанием психофизического тренинга являются элементы «системы» К.С.Станиславского: внимание, воображение, освобождение мышц, общение и т.д. Выполняя любое упражнение, включаем в работу все элементы. Например, чтобы «разогреть» внимание (самый простой элемент системы, т.к. внимание поддается человеческой воле), мы (группа) ловим «хлопок» педагога. Не просто хлопнуть вслед за ведущим, а поймать на лету (подключаем воображение), поймать как мячик (пулю, стрелу, конфетку и т.д.), а для этого необходимо расслабиться, снять ненужное напряжение, мышечные зажимы. Педагоги долго добивались от нас неформального выполнения упражнения. Обманывали, делая несколько хлопков подряд, а затем резкую паузу, и, если мы не поддавались инерции, значит – были подлинно внимательны. В идеале, выполняя это упражнение, группа должна действовать как один человек. Получилось поймать – значит, уже запущен в работу элемент общение, ведь мы взаимодействуем, мы – одно целое. У нас получается не сразу, ладошки от хлопков горят. Вначале больно, потом перестаешь чувствовать или замечать неприятные ощущения. Главное – поймать хлопок, не сбиться, успеть вместе со всеми; ничто не способно тебя отвлечь.
Это упражнение одним из первых подводило нас к пониманию «тратности». Не жалеть себя. Выкладываться на все сто процентов. «Не левой пяткой в полноги, а по максимуму тратьтесь, – говорили педагоги, – отдавайте энергию, и она вернется к вам в большем объеме». И действительно, через некоторое время мы перестали уставать, как будто открылись «запасные клапаны»; столько силы, столько энергии, столько желания работать!
«“Тратность” – это закон, – говорил нам С.В.Клубков, – тратьте себя, свою энергию, эмоции, мысли. На холодной сковороде ничего не приготовишь. Что делает солнышко? Тратится на нас! Каждый спектакль, каждая роль должны стать источником энергии, энергии жизни».Действительное понимание понятия «тратности» далось нам кровью и потом, часами проживания в тренинге, в череде сложных упражнений.
Я постигала процесс через большое собственное сопротивление: мешали мозги, мешали вопросы, засевшие там: «что делать?», «чего от меня хотят?», «как надо действовать?». А самое ужасное – ничего не объясняют. После упражнений предлагают высказаться, а что говорить, когда ты ничего не понимаешь. Тебя не оценивают, не говорят, хорошо или плохо, так или не так. Ну, моменты рождения, осознания себя, это еще понятно, особенно если ты появился «фантастическим существом», «несуществующим микробом». В этих упражнениях снимались все запреты, все шаблоны. Как надо, никто не знает. Ведь то, что я создала, нигде не существует, оно – только в моем воображении, все впервые! И только я, здесь и сейчас, могу постичь логику действия этого «небывалого существа». Важно действовать. Нет границ. Полная свобода, только действуй в вымысле. Кажется, все понятно. Но что делать, когда упражнение длится часами? Когда из меня должен получиться кто-то конкретный на определенном этапе эволюции? Летаю, машу крылышками, мол, я – бабочка, и думаю: «Господи, когда все закончится? Если бы знала, что здесь будет, захватила бы с собой энциклопедию по биологии. Прочитала бы, что делать и как!». А впереди еще много эволюционных ступеней, которые мы должны «прожить». В общем, я мало что воспринимала. Смотрела и не видела, слушала и не слышала, боялась что-нибудь сделать не так. А педагоги, как будто читая мои мысли, повторяли: «Самый мощный путь обучения – это пропустить все через себя; сначала сделай, а потом поймешь и спросишь. Не “Господи, за что это мне?”, а “Господи, для чего это мне?”» (в полном соответствии с тезисом С.В.Клубкова, вынесенным в эпиграф).
Прорыв пришелся на упражнение «Песочница». Как я сейчас понимаю, все принципы до меня каким-то образом дошли. Может, потому, что когда-то была ребенком, как и все участники тренинга. Не знаю. Время пролетело незаметно. Во время упражнения хотелось не выходить из детства: возиться в песке, лепить, дарить, убегать, прятаться, смеяться и плакать – только не «домой». На обсуждении мы готовы были долго вспоминать прожитый «детьми» день. На самом деле мы просто подлинно, логично, целенаправленно, результативно действовали в предлагаемых обстоятельствах здесь, сейчас и впервые, а значит – творили. В «Песочнице» ко мне пришло вдохновение. Я испытывала новые необычные ощущения в себе и что-то новое в окружающих людях и в мире. Этот принцип «здесь, сейчас и впервые» лично для меня был тем «ноу-хау», который я не могла понять из литературы, а осознала только на тренинге. Здесь он стал игрой, удовольствием, создалась та атмосфера творчества, радости, при которой студенты стали включаться в процесс. Сложилась атмосфера, при которой нас не надо было заставлять, подстегивать; мы сами готовы были трудиться до ночи, потому что получали наслаждение от процесса. Сергей Вячеславович говорил: «Не бывает искусства вне радости! Рожайте, кричите, но в радость». Мы поверили в себя, как будто про нас, играющих в «Песочнице», написал К.С.Станиславский: «Достойно удивления, как долго могут дети удерживать свое внимание на одном объекте и действии! <...> Иллюзия подлинной жизни, создаваемая детьми в игре, так сильна, что им трудно вернуться от нее к действительности. Они создают себе радость из всего, что попадается под руки. Стоит им сказать себе “как будто бы”, и вымысел уже живет в них. Детское “как будто бы” куда сильнее нашего магического “если бы”. <...> Вот когда вы дойдете в искусстве до правды и веры детей в их играх, тогда вы сможете стать великими артистами» (Станиславский, 1989, С. 228-229).
С упражнения «Песочница» я не мозгами (они, наконец, отключились), а всем телом, всеми органами чувств, всеми элементами «системы» постигала процесс. Сняты запреты. Можно все – нельзя бездействовать; если ты действуешь, ты – существуешь.
«Никогда не ври и ничего не бойся», – говорил своим ученикам много веков назад Заратустра. «Никогда не ври и ничего не бойся – это закон», – так начинал свои лекции Сергей Вячеславович.
На первой сессии получаем задание: написать, придумать темы музыкальных этюдов. Очень важно, чтобы эти темы лично волновали каждого, «задевали за живое». Оказалось, высказаться очень трудно. Страшно. Не знаю, как это было у других, но все мое существо «сопротивлялось»: зачем я буду о своем, о наболевшем всем рассказывать. Но начинать с правды принципиально важно. «Любая ложь начинается со лжи самому себе, – говорил наш мастер, – услышать свой собственный голос, поверить себе и высказаться. Пусть на максимуме возможностей, через слезы, через боль, но честно. Только искренность может родить правду». Благодаря работе над этюдами, я осознала процесс поиска своей темы, темы, которая меня волнует, темы, о которой я не могу молчать. Сергей Вячеславович всячески вдохновлял нас: «Ставить спектакль о том, что сегодня насморк, а завтра глисты – не этично! Если вам Бог дал возможность высказать себя, начинайте с правды, выражая себя – выражаете людей! Медленно и тихо рождаете правду; если идете на результат, сразу – ложь. Начало правды, как зачатие. Любое творчество – это как твой ребенок; глаза должны гореть, как у детей». Вдохновил. С помощью педагогов – зачали. С трудом, со слезами, с отчаяньем – родили. Экзамен: показы «музыкальных этюдов». Над каждым этюдом зрители и плачут, и смеются, потому что темы задевают каждого, потому что, как говорил мастер, «искусство всегда личностно и всегда общечеловечно».
После той сессии, на которой мы прожили весь психофизический тренинг С.В.Клубкова, многие вопросы исчезли. Практическое, наглядное подтверждение получили следующие его мысли: «Для нашего подсознания нет разницы – происходит действие в реальной жизни или в сфере воображения. Можно не ждать, пока жизнь предложит ту или иную сложную жизненную ситуацию, а смоделировать ее в игровой форме, прожить в более щадящих лабораторных условиях. Но прожить честно, не изобразить. Тогда тренинг дает возможность психологической реабилитации или стремительного развития личности за счет быстрого прохождения определенного участка пути к главной жизненной цели, ускоренного воображением и концентрацией всех возможностей организма» (Клубков, 2001, С. 82-83).
Пришло действенное осознание практичности многих методологических положений, которые ранее представлялись мне чисто теоретическими, не имеющими отношения к моей ежедневной работе. Возникло ощущение, что я стала свободнее не только физически, но и психологически, и личностно. Поняла что-то новое о себе. Поняла, что многие вещи можно постичь не разумом, а телом и душой, освоить всеми органами чувств и подсознанием. Для меня важно, что психофизический тренинг С.В.Клубкова является естественным продолжением «системы» К.С.Станиславского. Именно после тренинга я совершенно по-новому восприняла давно известную мне «Работу актера над собой». Для меня многое прояснилось в содержании и методах работы режиссера-педагога, причем, по ощущению, не медленным приращением, а скачкообразно, с выходом на качественно новый уровень (и это отмечали воспитанники студии, имевшие возможность сравнивать «до» и «после»).
И если, как писал К.С. Станиславский, «основная цель сценического искусства <…> заключается в создании и жизни человеческого духа» (Станиславский, 1989, С. 62), то целью педагога, режиссера детского театра должно являться не столько обучение актеров, сколько воспитание личности, развитие «духа человеческого» этой личности. Трудно соответствовать, не всегда получается, делаешь ошибки, исправляешься, падаешь и поднимаешься, идешь дальше и наслаждаешься процессом познания себя и других, процессом творчества.
Закончу словами Сергея Вячеславовича Клубкова: «тренинг создавался для профессиональной подготовки актеров. Но если мы рассматриваем театр, как демонстрационную модель мира, если театр – это путь обучения человечества высшим законам бытия, то каким должен быть человек, выходящий на сцену?! Подготовка актера для такого Театра – это подготовка Человека» (Клубков, 2001, С. 71).
Список источников
Дистервег А. Избранные педагогические сочинения, М.: Учпедгиз, 1956. 374 с.
Клубков С. Уроки мастерства актера: Психофизический тренинг // Театр: практические занятия в детском театральном коллективе. – М.: ВЦХТ, 2001. – С. 70-112. (Я вхожу в мир искусств. – 2001. – № 6)
Станиславский К.С. Работа актера над собой. Часть 1. Работа над собой в творческом процессе переживания: Дневник ученика // Собр. соч. в 9-ти т. – Т. 2. – М.: «Искусство», 1989. С. 39-497.
Театр, где играют дети: учеб.-метод. пособие для руководителей детских театральных коллективов / Под ред. А.Б.Никитиной. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 288 с.
Клубков С. Уроки мастерства актера: Психофизический тренинг // Театр: практические занятия в детском театральном коллективе. – М.: ВЦХТ, 2001. – С. 70-112. (Я вхожу в мир искусств. – 2001. – № 6)
Станиславский К.С. Работа актера над собой. Часть 1. Работа над собой в творческом процессе переживания: Дневник ученика // Собр. соч. в 9-ти т. – Т. 2. – М.: «Искусство», 1989. С. 39-497.
Театр, где играют дети: учеб.-метод. пособие для руководителей детских театральных коллективов / Под ред. А.Б.Никитиной. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 288 с.
Похожие материалы
Если Вам понравился материал, Вы можете поделиться им, нажав на кнопку внизу
